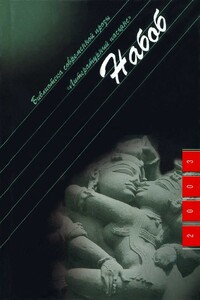Праздник побежденных | страница 87
Каждое утро отец выходил из дома молчаливый, уверенный, зеркально начищенные сапоги обтягивали толстые икры, в руке желтый портфель, а в заднем кармане галифе сокровенная вещь — подаренный наркомом никелированный браунинг с серебряной монограммой на рифленой рукоятке, с ним отец не расставался даже ночью.
У подъезда его ожидал синий «линкольн», но отец, все так же глядя под ноги, указывал на них — пионеров, а сам садился в трамвай с народом, стоял, уступая место слабым и держась за ручку. «Линкольн» с никелированной собакой на радиаторной пробке отвозил ребят в школу, и они хором скандировали: «Боль-шо-е пи-о-нер-ское спа-си-бо!»
Позже, когда Феликс был курсантом летной школы и приезжал в отпуск, отец по ночам всякий раз, как под окном проходила машина, метался и стонал, водил во тьме револьвером и, когда звук мотора утихал, сникал, тайком доставал бутылку, и в темноте слышалось хлюпанье, запах водки и стук зубов о стакан. Отец — великий трезвенник — начал пить.
Лежа на траве и глядя в ущелье, Феликс вспомнил и тот последний день, когда ранним утром отец сходил в баню и, улыбающийся, с раскрасневшейся шеей, откровенно поставил бутылку «московской» на стол. Феликс тогда подумал, что у отца все хорошо, и облегченно вздохнул, а отец предложил:
— Выпьем за мать и за деда.
Феликс удивился, потому что знал от бабушки историю о том, как много лет назад отец с братом ночью забрались в храм, похитили серебро и спрятали в дедушкиной конюшне. Дед, невероятной силы ломовой извозчик, не пожелал ничего слышать об «экспроприации для блага народа», а снял с телеги барку, избил до полусмерти и проклял сыновей. Церковную утварь вернул в храм. И до конца дней замаливал грех. С тех пор дед и сыновья были врагами.
— Да-да, Феликс, выпьем за деда.
Они выпили. С отца сразу сошла деланная игривость. Он долго и мрачно глядел в пустую рюмку и с неожиданными для него мягкими, виноватыми нотками сказал:
— Феликс, сын мой, виноват я перед твоей матерью и перед дедом твоим, прости меня, сынок. — Он опять помолчал, по его мрачному мясистому лицу поползли слезы, но не слеза испугала Феликса, а то, что большая бритая голова отца стала тяжела для его могучей шеи и он с трудом держал ее, поминутно роняя то на грудь, то на плечи. Отец смахнул слезы и заговорил по-деловому, все так же роняя голову:
— Вчера вызвал меня сам начальник управления и говорит в пол, этак твердо: Волховстрою нужны плотники, приказываю доставить двадцать плотников. Если арестуешь девятнадцать, двадцатым пойдешь сам. Ты понял, Феликс? Разве можно невиновных? Это ж компрометация идеи. Контрреволюция… — На миг глаза отца вспыхнули, но тут же и потухли, и отец зашептал, заскороговорил, тихо, судорожно: — А я не могу. Я… я… могу одного… только одного плотника, девятнадцать не могу — одного хоть на десять лет, себя, понимаешь, себя, хоть в землю, себя, понимаешь, себя.