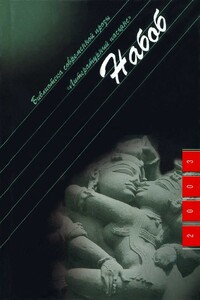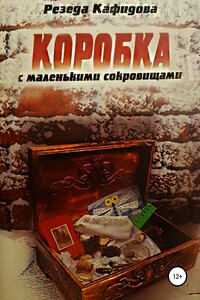Праздник побежденных | страница 70
Люди, серьезно глядя себе в ноги, расходились. У цвинтаря стояли уж бричка и кривой солдат. И я снова услышал голос Фатеича:
— Эту падлу не тронь рукой, — наставлял он, — а ногами, ногами, чтоб спихнули в овраг. Да пуговицы со звездами у того, что в нашей гимнастерке, срезать, нельзя, чтоб звезды на предателе, — не унимался он, но в голосе его не было прежнего безумного напора.
Мне пришла навязчивая идея — во что бы то ни стало похоронить Ванюшку. Я не дам его глодать одичалым собакам, ютившимся у пепелищ. Но почему так болит голова, почему так жарко? Главное, ни о чем не думать, а то сойду с ума. Думать буду потом. И если я мог что-то, но не сделал, то твердо решил — застрелюсь.
Рядом храм гордо нес кресты. Я смотрел долго, иронично и с издевкой спросил:
— Где же ты, Бог? Почему ты спас меня, безбожника, а Ванюшку?..
Вдруг на плечо легла рука, и угодливое лицо Фатеича виновато улыбается, заглядывает мне в глаза.
Большего омерзения в своей жизни я не испытывал, я ненавидел его так, что упивался ненавистью и не снял руки с плеча, а он, поглаживая мою шею, шептал со слезинкой в голосе:
— Ну, до чего ж ты жалостлив, Фелько, чертушко ты мое… Ну, мучились бы они, ну? Солдаты б касками в смерть забили. А за правду ведь, за правду бы забили…
Он поднял со снега мою перчатку, отряхнул и сунул в карман. И жестче прибавил:
— А казнить, думаешь, легко? А? А надо ведь, надо.
Что-то нужное я хотел спросить, что-то нужно было делать. Ну почему так горит голова? Почему мысль ворочается раскаленным жерновом? Ах да! Я хочу похоронить Ванятку, и, глядя в снег, я сказал это чужим, сиплым голосом.
— Это можно, — обрадовался Фатеич, — они уж понесли наказание, это мы в миг. Только пуговицы с того, в нашей гимнастерке, срезать нужно, со звездочкой они.
И заторопился крупным проседающим шагом к каретнику.
Я смотрел ему вслед, и ромб между ног на просвет то вытягивался, то плющился квадратом. И чего я обратился к этой сволочи? А он, обходя танк, крикнул танкисту:
— Когда они по парашютам бьют, то в обморок не падают. В небе они — во! — и он крыльями развел руки, — орлы! А на земле, — и он обронил руки, — мокрые курицы.
— В небе они крови не видят, авиация — она чистенькая, — рассмеялся танкист, — какава, шоколад, кроватка с простыней…
Я налегал на ограду и думал: как я могу говорить с ним? Как? Но почему, когда я обратился к Богу, на мое плечо легла рука, его рука? Вот тебе и правда.
Перед лицом возникли сапоги с задранными носами. Я молчал. Фатеич помочился и, протопив в снегу норку, виновато сказал: