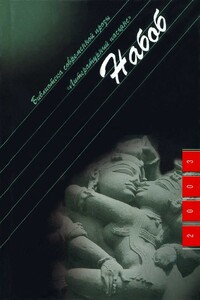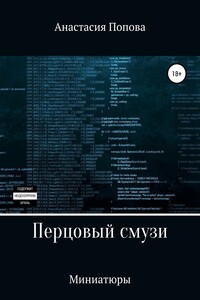Праздник побежденных | страница 59
«Она сумасшедшая или шлюха», — опешил Феликс, но сказал иное:
— Так сразу и поцеловать?
— А тебя что, уговаривать надо? Ты этого желаешь? — и зазвучал смех.
Слова падали, как камни, ступени под его ногами скрипели и стали мягки, он ухватился за косяк и забормотал нечто о лагерях и уголовниках, и достоин ли он, и действительно ли она его желает! А не лучше ли режиссер? — и говорил, говорил нечто о свободной любви.
Он говорил, чувствуя спиной черный провал двери, и ловил себя на том, что рухнет в этот провал, и уж более ему не встать, и в то же время так страстно желал упасть. Потом приблизилось ее лицо, волосы и грудь. Он попятился, а она шептала:
— Ты глух? Ты слеп? Ты и на танцах ничего не понял? Тебе что ж, кричать надо?
Она детски прильнула к его плечу, страх ушел, и лампочка из ветвей уж мирно золотила ее волосы.
— Гимназисточка, — прошептал он, но в голове проснулся бес, захлопал в ладоши, возликовал: «Кто она? И кто ее привез? И почему ей понравился ты, а не режиссер, — вспомни, что говорил герой. Она лжива, поругалась со своим кумиром и пришла к тебе, чтоб отомстить ему. Ничтожество ты, Феликс Васильевич, да еще и дурак», — изгалялся бес.
И Феликс, озлобившись, уязвил:
— Ты всегда придумываешь дни рождения?
Она, будто ослышалась, кончиком языка облизав губы, прошептала:
— Я пойду, я, пожалуй, пойду, а ты отдохни, ты очень устал… очень! Дорогой мой, — но не ушла, а, поеживаясь, надела в рукава пуловер.
Ему бы извиниться и уйти, но он понес вздор. О ее лодке, которая плыла двадцать пять лет, не зная его, Феликса, и пусть себе плывет, и забудет и этот день, и этот берег. Он говорил о том, что его одинокий фонарь будет догорать над тихой заводью. Он умолк, увидел болезненно и рельефно ее ноги в белых туфлях на ступенях. Увидел разлапистые тени виноградной листвы и неожиданно для себя и для нее обнял ее, прильнул щекой, бормоча о герое, о том, что пусть он. Он красивей, он лучше, и пусть она его, героя, простит.
— Пусти, — холодно сказала она и вошла в комнату, закрыв дверь.
Феликс постоял и побрел в кромешной тьме, и не было ни раскаяния, ни злого торжества, лишь зияла пустота в его груди. Он брел над морем, рискуя упасть с обрыва. Он отыскивал огни. Но его именинный пирог отсверкал, и море лежало черным холодным провалом. Лишь на причале он увидел фонарь, волна накатывала неоновый росплеск из ночи.
— Дурень и фантазер, — сказал он и услыхал смех. Смеялась Ада Юрьевна, смеялась тихо, беззлобно, ибо всегда и все прощала ему.