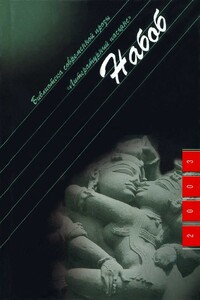Праздник побежденных | страница 44
— Ванятка, — взламывает очарованно тишину чернобородый и наполняет кружку, — пей, Ванятка, душа горит!
У школы разом вспыхнули сигареты, закачались фуражки с высокими тульями, заговорили «иноземцы».
— О-о-о, талант колосаль… о-о-о, фантастик. Зер гут! Берлинер опера.
Немец — я узнал в нем капитана — отделяется от группы слушателей. Я слышу тихий, чуть растягивающий слова голос: «Майор очень желает услышать разухабистую русскую „Катюшу“». Под телегой молчат. Молчит и Ванятка с все так же закушенной рукой. «Майор считает, такой талант достоин быть в Берлинер опера, а не здесь, в дремучем лесу». Тишина. Немец ждет, переводя взгляд с мрачных бородачей под телегой на чернеющий лес, затем снимает фуражку и тампонирует под козырьком. Хрустит песок. Нет, торжествую я, Ванятка петь для них не будет.
Ванятка ладонью оглаживает лицо, будто снимает невидимую пыль, морщась и болезненно туго соображая, возвращается на землю и коротко говорит:
— Никс, горло болит, другой раз для господина майора, — и кашлянул для убедительности.
— О-о-о! Очень, очень жаль, — кивает немец, — очень, очень хорошее горло, такой горло нужно очень беречь. — И уходит.
Под сосной черные фигуры козыряют, щелкают каблуками, звякают дверцы, урчит мотор, и приземистая легковая, описав дугу, выезжает со двора. Под телегой в бородах скалятся рты.
— Поехал, берлинер оперу смотреть, твою мать. В лес попади, там тебе покажут «зер гут», оперу — твою мать!
Лицо киргиза сияет молодой луной.
— Ванятка, карашо, — картавит он. — Если кто обидит Ванятка, резать буду, как баран.
Они мрачно допивают, раскладывают на телегах кошмы, сено, винтовки под руку, молча ложатся. Во тьме все реже вспыхивают цигарки, и густой, со стоном, с зубовным скрежетом храп наполняет двор. И лишь киргиз, сидя на пятках, опустил бритую голову на грудь, да покалывает штыком ночь немчик — маленький Мук. А луна над бором в дыму скользит рыбой, и по лицам изменников плывут тени, навевая тяжкие сны.
Была полночь, и свет луны с оконца вывел из бездумья. На рассвете они придут, чужие и серьезные, и поведут босиком по росистой траве, наверное, за школу. Когда ж потом я стану предметом, и трактор с желтым маховиком потянет прицеп, наверное, за луг, к оврагу, я буду перемещаться по кузову от борта к борту, как вещь. Я буду мертв. А когда взойдет солнце, мое тело с бесстыдно выпяченной лобковой костью и вывернутыми ногами будет стыть на дне оврага. Покойникам всегда неудобно, бесстыдно и все равно. А над оврагом закружит воронье. А болотник там, в подсолнухах… на пепельном пятачке.