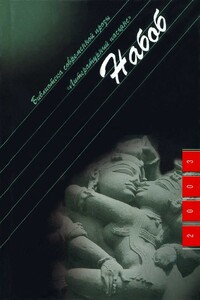Праздник побежденных | страница 4
Феликс отхлебнул еще и успокоенно стал разглядывать себя в зеркале: впалые виски с прилипшими седыми волосами, некогда крупные и правильные черты лица оплыли и теряют форму, горькие складки от углов рта оканчиваются аристократическими припухлостями, как на портретах вельмож, лишь голубые глаза не выцвели — безумно блестят.
— Докатился, — прошептал он и, отраженный в зеркале с ружьем, бутылкой и в сиреневых кальсонах, печально покивал головой. Бывший летчик — в шее осколки авиационного снаряда и сейчас омерзительно синеют, будто татуировка, — а ищет под кроватью что? Он зло выругался и сел на пол. Теперь из зеркала глядела лишь голова.
«Больше не могу, СТРАХ». Он оказался сильнее. С юных лет в груди ворочался беспричинный страх, страх распускал по конечностям щупальца, пульсировал в горле под пионерским галстуком. Феликс бледнел, обливался потом, люто презирал себя и больше всего боялся, чтобы никто не узнал, как он боится. Но на смену страху приходила ярость, и он, озлобленный, лез в пекло. Все говорили — герой. А по ночам, скрипя зубами, боялся тюрьмы. Страх тюрьмы был наследственным. Ее, как страшного суда, боялась мама, в ней, как дома, распоряжался отец.
Но и этот страх он побеждал. Непобедимым оставался страх пред женщиной. Женщины были для него сказочными и таинственными существами, он глубоко чтил, не смел даже в мыслях иль в полусне коснуться их. Он готов был отдать все, умереть за них, но в их присутствии заикался, бледнел и думал об одном — как бы поскорее исчезнуть. Женщины же глумились над ним.
Лишь одна — нескладной девочкой, подростком, позже девушкой с правильными формами, чуть полноватая, спокойная, голубоглазая, беловолосая, — была влюблена в него много лет. Феликс же видел в ней бесполое существо, испытывая только досаду.
Нет, он никогда не был близок с женщиной и не жалел, втайне осознавая, что ни одна не сравнится с идеалом, созданным его больным воображением. А ведь он и видел-то ее, свой идеал, лишь единожды, на кладбищенском фото. Звали ее Ада Юрьевна Мурашева.
Теперь ему не снится Ада Юрьевна, отступает и ярость, остается беспричинный страх. Но почему? Он истерично пытался доискаться — сотни искрящихся кривых вспыхивали и гасли в воспаленном мозгу. Ответа не было. Он закусил руки и завыл.
Тюрьма? Нет!
Он был уже давно наказан, но кто из судейских будет вникать? Закон — мера для всех одна, но один, попадая за решетку, добудет матрац, набитый соломкой помягче, — и доволен, а лишняя ложка похлебки сделает его счастливым. Он и с ребятками в «толкунчика» играет, и надзиратель его принимает и любит.