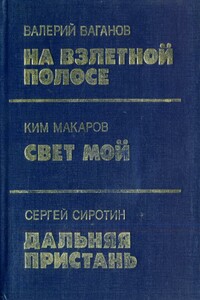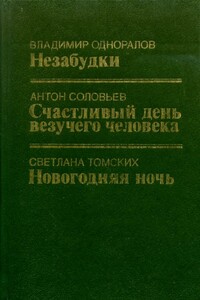Признание в Родительский день | страница 12
— Ой, не дойду, Матрен. Упаду здесь, и малина не нужна будет.
— А кто звал? Я, что ли, тебя взманила? Айда, копоти по просухе. Слышишь, Илья никак?
— Нет, не Илья, — прислушивается Настенька к глухому раскатистому звуку. — Это щебенку за горой взрывают.
А Матрена и сама устала — так бы присела на пенек и не двигалась.
— Никуда боле с тобой не пойду, не выманишь, — ворчит она.
— Мозжат ноги-то, ровно не свои сделались, — нудит сзади Настенька.
У ворот Матрены подружки расходятся. Та отсыпает Настеньке стакана два малины.
— Заглядывай вечерком, — говорит Настенька. — Чайку попьем.
— Сама лучше.
В избе Матрена, несмотря на усталость, включает электроплитку. Она дожидается, пока вскипит вода, заваривает покрепче чай. Наливает стакан, достает из шкафа сахарницу и слышит, как стукает калитка.
«Неужели Настенька?» — думает Матрена. Точно: она.
— Матрен, я тебе про сон-то не рассказала, — тараторит с порога Настенька. — Угадай, что я во сне видела?
— Ну, рассказывай.
— Сатинчик, Матрен. Иду по базару, вижу: цыган сатинчик продает. Такой сатинчик, такой сатинчик — на гроб хорошо бы. Ведь сколь охочусь, не могу натакаться, а тут поталанило. Хватилась, а денег — ни копейки. Кинулась домой, схватила портмоне — скорей обратно! А сатинчик весь уж разобрали. Такой сатинчик был синий, со звездами… Матрен, ты не растолкуешь, к чему это? К добру аль нет?
— Не знаю. Давай лучше чай пить.
И старухи садятся за стол, с наслаждением пьют чай. Весь чайник.
— Ну, ладно, пошла, — прощается Настенька. — Не обессудь. Так, говоришь, не знаешь, к чему сон-то?
— Не знаю.
Один в лесу
Собирает будто Марья в дорогу его, приговаривает:
— На люди поедешь, Афанасий, надень новый пониток.
Достала жена из сундука обновку, начала мужа наряжать, пуговицы застегивать. И не сходится на груди одежка, и дышать трудно, а Марья все тянет и тянет пуговицу к петле.
Просит и зовет ее Афанасий по-старому:
— Марея, Марея, отпусти ты меня — тяжело!
И уже не Марья это, а невесть откуда взявшийся чернобородый кудрявый мужик, странно знакомый Афанасию, — стягивает на груди одежду.
— Кто же это? — силится вспомнить Афанасий и вдруг узнает: конокрад! Давно, еще в юности, отобрав у него своих угнанных лошадей, оставили они этого человека в лесу — одного, со связанными руками, на коленях перед сухим деревом, в ствол которого вбили клином бороду вора.
— Ты же умер? — спрашивает Афанасий мужика. — Тебя нет…
— Умер, умер, — запросто и незло успокаивает его конокрад, а сам продолжает свое дело.