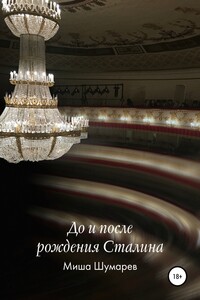Преодолей себя | страница 76
— Ну, не пугай меня, Вельнер, не пугай. Может, и не шпионка она, может, мы ошибаемся. Вместе с тобой ошибаемся, Ганс. И брось, пожалуйста, горячиться.
— Я никогда не ошибался и, работая только в интересах Германской империи, должен постоянно и беспощадно бороться с врагами родины и их пособниками. Должен изобличать партизанских лазутчиков и шпионов.
Настя слушала высокопарные тирады фашиста и понимала, что не все гладко у немцев не только на фронтах, но и в Острогожске. Можно сказать, земля горит под ногами, потому и суетятся, нервничают, срываю злобу на безвинных людях. Убивают, томят в застенках, отправляют в рабство. Вельнер мог погубить и Настю в любую минуту, просто приказать, чтобы ее повесили. Она понимала, что матерый фашист ненавидит ее и каким-то внутренним чувством определил точно и бесповоротно, что она враг, а раз враг, то врага уничтожают. Она немела от недоброго предчувствия. Могут быть два исхода: или она погибнет, или все еще будет жить — жить в неволе, за решеткой, в концлагерях, где та же медленная смерть.
И на этот раз бить ее не стали. Вельнер предложил еще подумать. И вот она снова в камере, одна, со своими горькими раздумьями. Одна — и как это страшно! Хоть бы с кем посоветоваться, как отвечать на вопросы палачам... Хотя бы повидаться с дядей Васей: что бы он посоветовал? Что бы сказал? А возможно, и он в этих же застенках и тоже размышляет, как быть и что предпринять. Какова-то судьба Ольги Сергеевны, жива ли? Господи, какой кошмар! Уж скорей бы все это кончилось! Эти бессонные ночи. Мама, родная мамочка! Где ты? Что думаешь обо мне? И знаешь ли, где я? Она так хотела повидаться с матерью, поговорить хоть минутки две-три и проститься, может быть, навсегда. Да, навсегда...
На следующий день к ней в камеру пришел Брунс, Надзиратель открыл ему дверь, и Брунс остановился у порога. Она приподняла голову, ждала, что он скажет. Потом дверь снова заскрипела: надзиратель внес табурет и поставил его в некотором отдалении от Настиной койки. Брунс сел, закинув ногу на ногу. «Что его принесло сюда? — подумала Настя.— Начнет, поди, уговаривать: дескать, признайся, раскаяние принесет свободу». Но разве может она открыть фашистам правду? Нет, нет, она будет таить эту святую правду до самого конца. Ничего она им не скажет, в том числе и Брунсу. Она смотрела на него и ждала. От Брунса пахло жасминовым одеколоном, и эти запахи очень остро воспринимались в затхлой и вонючей камере.