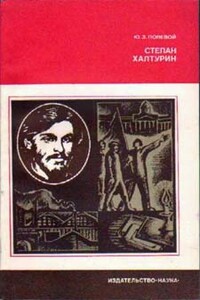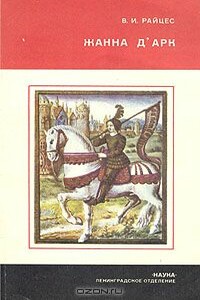Воспоминания арабиста | страница 50
Говорят: «на ловца и зверь бежит». Применительно к работе над рукописями это не всегда верно. Как долго и упорно я ни разыскивал сторонние свидетельства о ширванском поэте Аррани, чей сборник в чудом сохранившемся единственном экземпляре когда-то попал в мои руки, поиски пока ни к чему не привели. Конечно, трудно предполагать, чтобы среди осторожных писателей средневековья мог легко отыскаться тот, кто безбоязненно решился бы восстанавливать в памяти подданных восточного монарха печальную повесть об опальном царедворце и публичной казни его вдохновенных творений велением шаха; в условиях антагонистического общества, взрастающего на кастрации мысли, все, что расковано, — рисковано, и смельчаку грозила бы возможность до конца разделить участь того, о ком он писал. Может быть, в таких расправах и погибли многие — или немногие — документы истории Аррани?… С другой стороны, примеры «Слова о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре», в конце концов даже Шекспира говорят о том, что наш случай — не единичный и, следовательно, не сверхъестественней. Но… «Но сердцу хочется надеяться на что-то лучшее вдали…» И поиски продолжаются. Наоборот, при переводе лоций современника Аррани — Ахмада ибн Маджида — меня ждал неожиданный успех, заставивший по-новому взглянуть на забытую рукопись.
Работая над ней, я был готов, конечно, к открытиям и хотел их — иначе к чему изнурительный труд филолога, требующий величайшей сосредоточенности и самоотречения? Сама мысль о том, что передо мной лежит уникальный памятник неизученного жанра арабской литературы, созданный выдающимся мастером, заставляла смотреть на каждую фразу текста как на откровение и искать в ней глубокий смысл. Слово «осторожность» голосом Игнатия Юлиановича постоянно звучало в моих ушах, но и на четвертом десятке лет человеку еще свойственно увлекаться и рваться в неведомое с большим пылом, чем это разрешают строгие заповеди науки. Я по многу раз перечитывал подробные описания фарватеров и признаков близкой суши в океане, таблицы звездных высот и морских глубин, стараясь составить себе реальную картину и, более того, одновременно начав строить теорию и ища ей все новых подтверждений. Некоторые ее положения, как показало время, оказались чересчур поспешными и решительными, но основное ядро вошло в основание будущей концепции. Новое лоно деятельности «сынов пустыни», новый аспект истории арабского халифата, его экономики и культуры, целый новый мир, качественно отличающийся от того, который известен традиционной науке и признан ею… Это звучало сильно.