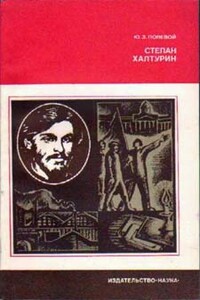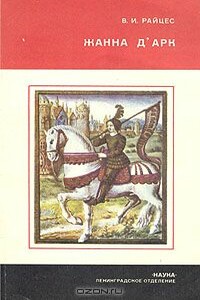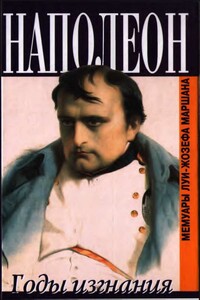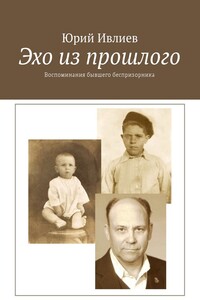Воспоминания арабиста | страница 16
А что же Юшманов? Здесь была другая судьба. Сын служащего Православного палестинского общества,[4] петербургский гимназист, он тоже шел в жизнь от книг, и это отлилось в раннее и плодотворное увлечение языками; но мобилизация на первую мировую войну сорвала его со студенческой скамьи, где юноша успел погрузиться в мир семитской филологии, и бросила в гущу людей, призванных под ружье империей. Чуткое ухо вслушивалось в грубую и яркую народную речь; потом до него стали доходить раскаты близкой грозы. Юшманов служил переводчиком на радиостанции Петроградского Совета в Таврическом саду, когда эхо выстрела «Авроры» прокатилось над Невой и миром; он оказался в центре событий. Бессонные ночи у аппарата, срочная передача депеш Совнаркома, памятные разговоры с Лениным и Володарским… Переводчик и радиотелеграфист Военнореволюционного комитета, не по-юношески подтянутый и деловитый, завоевавший сердца своих товарищей — революционных солдат Смольного — открытым нравом, стяжавший уважение за энциклопедические знания, поставленные на службу народной власти, мужал в огненной купели революции; как ученый, он ее ровесник и воспитанник. Свой пост в аппаратной он оставил тогда, когда убедился, что долг на этом важном участке выполнен им до конца: революция выстояла и победила. Теперь можно было возвращаться к ювелирному труду филолога. Общение со множеством разных людей из глубин России сообщило характеру Юшманова такие черты, как непринужденная живость, простота в обращении; весельчак, балагур, острослов, он, затягиваясь папиросой, — в противоположность ему Крачковский не выносил табачного дыма, — отпускал подчас такие каламбуры, от которых респектабельный Игнатий Юлианович мог бы лишь морщиться. Мало бы кто подумал, глядя на этого заразительно хохочущего человека, что в его теле давно гнездится неизлечимая болезнь, набирающая силы для рокового штурма, и что он об этом знает. Более важным, чем непринужденность, было другое приобретение Николая Владимировича, сделанное в годы, когда он дышал воздухом революционных будней Смольного, — убежденность в том, что даже самое отвлеченное творчество должно иметь практическую целенаправленность, должно быть нужным не отдельному человеку, а людям. С этой убежденностью он вошел в большое востоковедение и претворял ее в дело до конца своих дней.
Два человека, учитель и ученик. Занимаясь у Юшманова, я как-то никогда не думал, чтобы сам он, виртуозно владевший материалом разных языков, мог у кого-то учиться; но гениальный лингвист был когда-то студентом у того давнего, начинавшего, молодого магистра Крачковского и на всю жизнь сохранил сыновнюю любовь к своему учителю, ставшему советским академиком, основателем и главой школы советских арабистов. Сдержанный, уравновешенный, но внутренне страстный, сердцем прикованной к своему трудному делу в науке, Крачковский тоже любил своего ученика и гордился им; были в городе на Неве и другие мастера арабской лингвистики, знания которых он высоко ценил, но пальма первенства отдавалась им Юшманову. И оба, учитель и ученик, каждой каплей крови были преданы соединившей их научной арабистике. Крачковский вложил в строительство советской арабистической школы мастерство тонкого литературоведа, мудрость руководителя творческого коллектива, самоотверженность ученого; Юшманов подарил ей свой яркий талант.