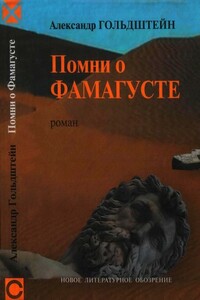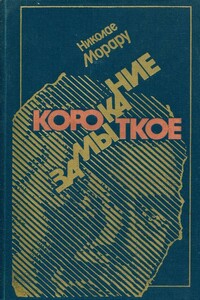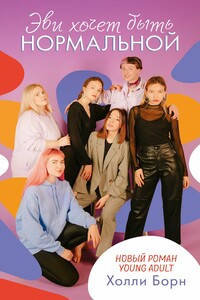Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 98
Кое-что понять и почувствовать позволяет знаменитый толстовский парадокс. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — в этой заостренной фразе заключено настойчивое желание доказать, что счастье нужно искать на внеиндивидуалистических путях и оно есть следствие жизни слитной, нерасчлененной (потому и похожи счастливые семьи, что живут ею и живут одинаково, ибо в сущности это одна семья). И, напротив того, потому персонально и не похоже несчастье, что предполагает расщепление привычных связей, выход из семейственности, замыкающей человека в круг внеличных ценностей и нераспыленного сознания.
Волны пролетарской солидарности омывают грубые, бедные очертания старого рабочего уклада в гроссмановском «Степане Кольчугине» (1940), книге сочувствия к цивилизации ручного труда. Ему нравился целомудренный быт семьи, — пишет автор о своем герое, — нравилась рабочая гуманность и доброта, нравилось великое уважение к науке и печатному слову. В романе «Заводы» (1937) Всеволода Лебедева встречаем почитающего науку и просвещение заслуженного кадрового пролетария, стены дома которого украшены картинками из «Нивы»: Гарибальди, Стефенсон, изобретающий паровоз, супруги Кюри, открывающие радий. Атмосфера традиционного мастерового отношения к культуре, которая красива и полезна, ассоциируется с поэтичной, добротной стариной, наподобие той, германской и мандельштамовской, когда «немцы в своих черепичных домах» впервые открывали «свеженькие, типографской краской пахнущие, свои готические библии»[46].
В 30-е годы постепенно отходит на второй план горьковская традиция изображения пролетариата. Несмотря на пиетет, который ощущали к Горькому многие, в том числе наиболее характерные литераторы того времени («Величие этого русского человека, — писал, например, Н. Зарудин в посвященном Горькому очерке „Дух Земли“, — именно… в страсти делать, что так роднит его с другими бессмертными, чье имя стало символом всеобщего освобождения Земли. Не нация Обломовых, а нация Горьких в этой народной черте!»), традиция эта, по всей видимости, понималась как слишком тесно связанная с ницшеанско-богдановской линией в русском большевизме — креативно-волюнтаристской, мистической и чудотворной. В период упрочения и торжества советского социализма эта жизнестроительная интенциональность перестает быть исполненной былого значения; отныне пролетарий, а точнее, рабочий, включен в принципиально иной чертеж бытия, в котором акцентируются совершенно другие черты — надежность, стабильность человеческих отношений и пафос неуклонного преодоления страданий. О страдании как об онтологически присущем действительности качестве писали немногие, главным образом А. Платонов, но тогда была сделана очень решительная попытка направить его литературные усилия в иное, более приемлемое русло.