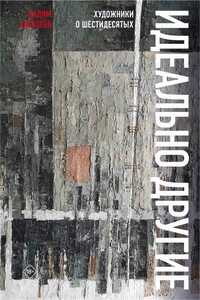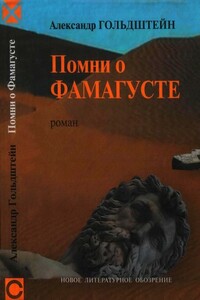Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 7
Не знаю, какой образ безутешности будет уместно избрать — речной или океанический: с летейских ли берегов или из атлантических (Атлантида) глубин взирают они на нас, уже бессильные, словно небывшие; и, кажется, никто не стремится, на манер Одиссея в Аиде, дать им напоследок отведать свежей дымящейся крови — в знак прощальной милости и признанья заслуг. Но речь не об имперских заслугах: по справедливому умозаключению Георгия Федотова, их было примерно столько же, сколько изъянов, а следовательно, исторический счет весьма близок к ничейному. Речь — об имперских гнездилищах поступка и жеста, об островах аутентичного бытия, сострадательного или жестокого, но уже свершившегося, то есть вечного. Или о том, как со временем это все пропадало, покрывалось землей, зарастало травой.
Австро-Венгерскую империю Габсбургов вскорости после развала как будто любили изображать в тонах сатирических и гротескных. Гениальную карикатуру нарисовал Ярослав Гашек, для которого не было ничего святого, но то лишь по первому и неточному впечатлению. Прежде всего, сатиры-разоблачения как жанра не существует, конвенция его была бы психологически недостоверна. Сатира — отягченная форма любви в особо крупных размерах. А во-вторых, хитрый Гашек, как тонко подметил один эзотерический герменевт (Е. Головин), речь ведет именно что о святости, либо о пути к посвящению, либо о вхождении в ситуацию «инициатической смерти», либо о жизни «истинного человека», к которой исподволь, обходными дорогами пробирается фольклорный идиот Швейк. Но любопытно ведь, что время идет и никакая холера его не берет, и пространства погибающей и погибшей страны, над которыми как будто можно только смеяться, этому дерзкому анабазису не так чтобы очень препятствуют — посмотреть бы на этого простеца в системах с более пристальным охватом действительности.
Проза Роберта Музиля заключает в себе иронию. Эта проза показывает, как все бесконечно ветшает в империи, но сама маниакальная приверженность автора объекту повествования — сотни и сотни неспешно разматывающихся страниц — свидетельствует о глубокой серьезности темы. Так обыкновенно бывает, когда об империи берется писать художник, даже если он вдохновлен разоблачительными целями. В «Тайной истории» Прокопия Кесарийского читаем о преступлениях Юстиниана и Феодоры, а также о неполадках с водоснабжением византийской столицы, но помимо воли озлобленного хрониста из-под пера его рождается картина сложного, насыщенного содержанием мира, который не может быть сведен к тривиальной дворцовой уголовщине. Аналогичная история, как сказал бы Швейк, произошла более тысячи лет спустя с Эдвардом Гиббоном, посвятившим четыре или пять томов своего колоссального «Упадка и крушения» истории Восточного Рима — Византии. Подробно и с присущим ему саркастическим блеском Гиббон описал длинную вереницу занимавших трон или гнездившихся возле него насильников, сластолюбцев, клятвопреступников. А в памяти остается и совсем другое, может быть, в первую очередь — другое. Образ Империи. Церемонной, великолепной, обольстительной. Пережившей свою смерть. Свою и нашу.