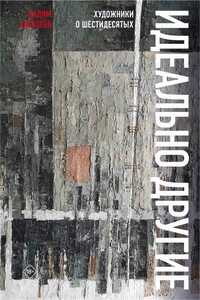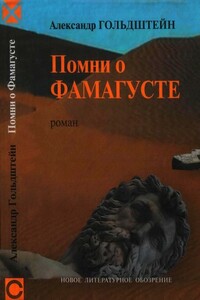Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 4
Империя — это экспансия. Ее государственная энтелехия побуждает ее к присоединению все новых территорий и народов, к захвату и переработке их по собственному образу и подобию. Такого рода деятельность, на которую — отвлечемся от неуместных здесь моральных критериев — империя обречена по определению, означает преобладание в ее политике, экономике и стилистике жизни стратегического расчета и огляда, всего, что связано с дальним, в пространственном и временном отношениях, планированием, вообще со всяческой всеохватностью и интегрированием. Это если и не любовь к дальнему, то, по крайней мере, неутолимое желание вовлечь его в орбиту своих интересов, сделать его частицей своих замыслов, исполнителем своей воли, бесконечно превосходящей любую иную. (Применительно к довольно условной и экзотической России обаяние этой величественной государственной миссии было неплохо передано в жюль-верновском «Мишеле Строгове».)
Экспансия, практика колониального распространения территорий и тяготение к универсализации своего опыта, имеющие непременным условием дальние коммуникации, общение больших групп людей с другими большими группами, отдаленными от первой не обозримыми глазом расстояниями, — казалось бы, все эти обстоятельства не позволяют утвердиться в имперском стиле существования (вернее, в отношениях между человеком и империей) такому качеству, как интимность (она понимается здесь не в индивидуально-психологическом плане, но как особая осанка или «поза» реализующей себя в истории и культуре личности). Однако Рутилий Намациан, процитированный в начале вступления, пожалуй, яснее, чем кто-либо другой в античной словесности, высветил новый ракурс имперской темы. Империя не только подавляет человека масштабом своей архитектуры, провиденциальным и сверхперсональным полетом своих замыслов («я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи»), по отношению к которым личность может застыть лишь в позе почтительного смирения, или страдальческого восторга, или одической гордости от участия в этой всесокрушающей и потому прекрасной силе. Прекрасность империи также и в том, что она есть чудеснейший жизненный круг, окоем и ландшафт, в котором человеку, к какой бы расе, культуре и религии он ни принадлежал, удобно обрести свою сущность, связав ее с великими образцами.
Всякая разноплеменная империя создавала также империю своего государственного языка, языковую космосферу, которая могла охватить и территории сопредельные, как в России и Австро-Венгрии, и заморские, в чем преуспела Великая Британия. Так было в эпоху Рима, ознаменованную золотыми орлами легионов и серебряной латынью, приходившими на покоренные земли вместе с типовым градостроительством, и в эпоху эллинизма, когда на развалинах державы Александра в ходу были греческий язык и греческая ученость. В период расцвета инородцы нередко перенимают язык строителей империи, которые — и в этом парадокс ситуации — лишаются исключительного на него права, становясь первыми среди равных. Ведь писал по-латыни африканец Апулей; а Чокан Валиханов создавал свои труды о Средней Азии, Казахстане и Западном Китае на тюркском наречии и по-русски, ибо он был тюркским просветителем и подданным русского царя, хорошо понимавшим, какие закрытые наглухо двери растворяет перед ним главенствующий в этом государстве язык; и совсем не чурался английского боровшийся против Британской империи Ганди, на каковом языке продолжают писать Салман Рушди, Найпол, Дерек Уолкотт. Евреи перенимали язык и имперский дух с наибольшей органичностью и часто становились их верными, преданными хранителями.