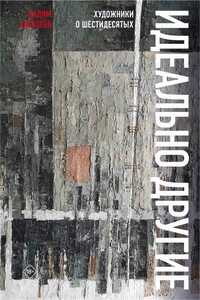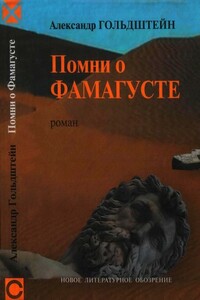Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 24
Евразийцы (до раскола движения, когда в нем стало хлопать и биться просоветское крыло), считали себя конкурентами большевизма и уж точно — не коллаборантами. С симпатией относясь к фашистской революции, корпоративному стилю в строительстве, они были не прочь овладеть большевистскими институтами в собственных целях. В коллективном труде «Евразийство (опыт систематического исследования)» говорится, к примеру, что комсомольские ячейки, как по структуре своей, так и по характеру входящей в них молодежи — завербованной, чистой, — являют собою возможные клетки чаемой евразийской партии, которая заменит собой большевистскую и тоже будет одна на страну, а эта единственность ее должна иметь своим фундаментом онтологическое соответствие евразийской системы самым глубоким основаниям народной жизни. Политические устремления евразийства включали в себя существенный, по первому впечатлению, момент поиска внутренней правды: в подтверждение этого тезиса назовем концепцию симфонических личностей, мысль о демотическом общественном договоре, представление о властвующей элите, должной наладить надежнейший строй. Но главное все-таки было в другом, и, формулируя упрощенно, выскажем так: евразийцы видели высший смысл российского государства в сохранении его целостности и державных позиций, его хищного статуса; нерушимость границ, железная армия, новый цезаризм, основанный на жесточайшей селекции, — эти принципы полагались центральными посреди войн с революциями. А тем самым традиционные характеристики имперского существования, привычный и сравнительно мягкий еще стиль жизни человека в империи оказывались отброшенными, они выглядели старомодными, как лучина против примуса, и должны были уступить место новшествам XX века.
Территории и экспансия, армия и система власти находились отныне вне этических обоснований, в своем абсолютном качестве, как если бы в них самих пребывал генеральный смысл государства. Империя представала разомкнутым кругом, откуда улетучилось содержание: один лишь каркас и скелет на поверхности, сияющая операционная голизна, опустошенный политический статус, а вовсе не тот окоем и ландшафт, внутри которого некогда веяло разнообразными чувствами и строгость не мешала веселым забавам, шаловливым поглаживаниям, трепетным выделениям.
В евразийстве был сильнейший географический детерминизм, фатальность земли, территории. Мазохистская эта фатальность подавляла остальные конструкции — всю симфоничность с идеократией. Пространственный приговор оборачивался государственным этосом или его «макиавеллистским» зиянием, формируя систематику ценностей. В современном неоевразийстве (оно уже тоже очень не новое) опять-таки любят поговорить о фатуме, о «единстве кристаллического фундамента Русской платформы, на которой раскинулась Средне-Русская равнина», о геофизических предпосылках объединения народов этой равнины. Бойкий слог эпигонов, их язык без костей болтает об этом без умолку, но гораздо отчетливей фатума звучит в голосах эпигонов желание Власти.