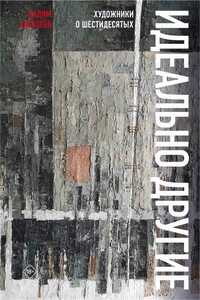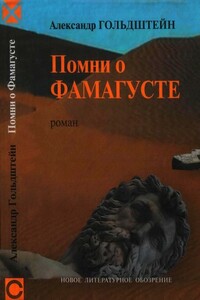Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 111
Говоря коротко и поневоле упрощенно, литература 30-х годов (определенная ее ветвь, разумеется) стремилась передать скромное обаяние социализма. Почти розановские эмоции по поводу теплой жизни «кагалом»[71], бок о бок, друг возле друга, «за чаем», в постели, чтобы можно было, преодолев отчаяние и ужас, пройти, взявшись за руки, по ледяной пустыне бытия, — эти эмоции звучат в словесности тридцатых.
Люди социализма приобщены к миллионам подобных им обитателей новой социальности как бы посредством невидимых, но ощутимых мистических лучей — лучей общей жизни. «Бак с тепловатой водой. Жестяная кружка на цепи», — перечислял Горбатов в романе «Мое поколение». «Тот с водой кипяченой бак, на цепочке кружка-жестянка…» — откликнулся О. Мандельштам, легким прикосновением освятив эти единые для всей страны предметы бедного быта. Эти двое, трое, четверо, проживающие в одной из бесчисленных ячеек социалистического улья («социалистического муравейника», как любил выражаться К. Радек), — суть частицы грандиозного и торжественного целого и несут на себе груз его наиболее важных идей. Жизнь их течет бесшумно, подобно елею, как сказал бы Михаил Пселл. В неброском поведении этих людей сквозит то, что расположено неизмеримо глубже любой идеологии, любого официального порядка речи. В женском и влажном месиве советского быта, а также во взгляде, в невзначай оброненном слове и способе его проговаривания и заключен социализм как реальность (разговор об искусстве, но, впрочем, не только о нем), социализм как движение человеческой души внутри всеохватного тела победившей общественности.
Прозрачность и демос
В середине 30-х годов, после того, как несколько улеглись волны сплошного обобществления в деревне, и до того, как на страну пошел девятый вал городских чисток и показательных политических процессов, в Советском Союзе наступил недолговечный период общественной стабилизации. «В эти самые годы, — писал Ю. Домбровский в известном романе, — особенно пышно расцветали парки культуры, особенно часто запускались фейерверки, особенно много строилось каруселей, аттракционов и танцплощадок. И никогда в стране столько не танцевали и не пели, как в те годы. И никогда витрины не были так прекрасны, а цены так низки».
Стабилизация породила в обществе разнообразные и неопределенные надежды. Казалось, что настало время жить. А если так, то у жизни другие законы, уклад, распорядок, нежели те, что так бурно прокламировались раньше, когда более учили умирать. «Время жить» требовало от человека умения сносно устроиться и, как отмечал парторг Рябьев, один из персонажей нашумевшего романа С. Семенова «Наталья Тарпова» (1927–1929), «организовать свой быт». Жизнь выстраивала совсем другую иерархию ценностей, приспособленную к тому, чтобы человек худо-бедно зацепился за свое существование, ввел его в некоторые рамки и вообще был ближе к щам, а не к святости, говоря на розановский лад.