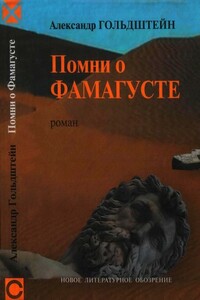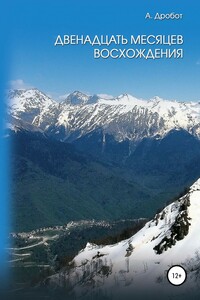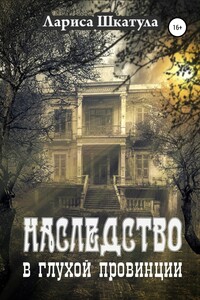Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики | страница 105
Гайдаровской гармонии с ее прозрачной ясностью социальных отношений свойственна безотчетная, то есть никому отчета не отдающая грусть; потаенная эта эмоция запущена в повести, дабы ей сообщить настроение духовного поиска и мистического путешествия. Так на советском материале должен был написать Новалис, отвлекись он ненадолго от поисков голубого цветка романтической чистоты и средневекового цехового братства в пользу голубой чашки социалистической целокупности.
Мы в сказочной стране, в прекрасной стране пролетариата. Это значит — мы в царстве ребенка! — восклицал М. Андерсен-Нексе на советском писательском съезде (заодно он призвал собратьев по перу выступать в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех тех, «кто все равно по каким причинам не может поспеть за нами»[55]. Товарищу Мартину, как назвал его С. Третьяков в «Людях одного костра», могло многое померещиться после Дании, но в полном согласии с ним заносил в свою записную книжку А. Платонов размышления о том, как «в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин отец или старший брат всех, Сталин — родитель свежего ясного человечества, другой природы, другого сердца»[56]. Отношение к Сталину — не самое интересное в этом высказывании. Внимание привлекает иное: в нем выражена новая тональность платоновского соотнесения с действительностью, ставшая затем господствующей в его текстах. Он постепенно отходит от апокалиптики и маньеристических гротесков, все более склоняясь к своеобразной страдальческой резиньяции, смиренному вслушиванию в мир в надежде отыскать в нем утраченное людьми счастье. Он будто пишет, говоря словами «человека из толпы народной»[57], башмачника и философа Я. Беме, «в некоторое утешение бедному, больному, ветхому Адаму, лежащему ныне почти на одре своего последнего отхода отсюда»[58].
Общеизвестно, что преодоление сиротства как фундаментального качества старой, беспощадной к человеку жизни (жизни доисторической, довременной, ибо несправедливой, подобно тому, как, согласно Б. Пастернаку, бытие человека в язычестве означало его бытие вне истории; на марксистском языке тоже говорили о доисторической, то есть докоммунистической фазе человечества) — одна из стержневых тем Платонова в 30-е годы, достаточно вспомнить такие рассказы, как «Семен», «Юшка», «Алтеркэ». О связи этих и других важнейших мотивов автора с построениями Н. Федорова написано удручающе много, тогда как заслуживают внимания и иные параллели и схождения, трудно сказать, в какой мере учтенные Платоновым, — в частности с идеями А. Хомякова. Хомяков писал о стройной тишине «быта общинного в его органической простоте», он порицал неподлинное состояние, которое «отрывает человека от естественных уз семейства и братского круга естественной общины и отпускает его на полную свободу безродного сиротства…». И далее философ характеризовал «семью», не заключающуюся в «одних пределах вещественного родства: она расширяется чувством любви и принимает в недра свои тех, которых судьба лишила естественного и родного покрова. Включение сироты в семью указывает на то высокое нравственное чувство, которым она крепка и животворна для общества. Там, где сильна семья, там нет круглого сироты»