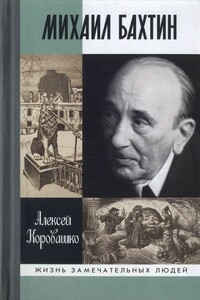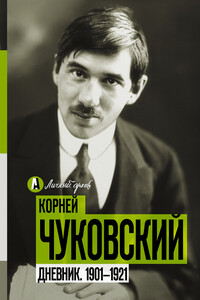Хогарт | страница 71
Быть может, иному читателю покажется, что Хогарт непоследователен, перенося действие за пределы Лондона. Но какое заблуждение думать, что для жителя английской столицы она существует помимо своих пригородов и садов. Совершая путешествие по Лондону не только во времени, но и в пространстве, нельзя миновать его окрестностей, столь же от него неотделимых, как красный кирпич и белые оконные рамы домов.
И вот мы — на Нью-ривер — в те часы перед началом сумерек, когда земля беспощадно отдает накопленное за день тепло, когда, кажется, воздух горячее, чем в полдень, и облака неподвижно застывают в уже чуть бледнеющем небе. В это время так упоительно пахнут лужайки лондонских предместий — медом, хмелем, теплой землей; чайки не летят, а словно висят в густом, душном воздухе, а от воды подымается та нежная поэтическая дымка, которую — много лет спустя — будет так блистательно писать Томас Гейнсборо. В самом деле — все в картине Хогарта дышит зноем: поникли листья плюща, вьющегося по стене харчевни под вывеской «Хью Мидлтон» (названной так, по всей вероятности, в честь знаменитого в ту пору филантропа), и даже корова безуспешно старается использовать сильно уже поредевшую кисточку хвоста вместо веера. Но самое красноречивое свидетельство знойной поры — это семья красильщика, что, разморенная духотой и пережитыми впечатлениями, возвращается в Лондон после незабываемых часов, проведенных на лоне природы, а затем, разумеется, в театре «Сэдлерз Уэллз».
Тут опять начинаются всякие забавные хогартовские выдумки, рожденные язвительной фантазией великого наблюдателя. Одни только сопоставления, сочетания, казалось бы, несоединяемого и несравниваемого дают неожиданный и смешной результат. И дородная, светящаяся розовым жиром красильщица, подавляющая массивными своими телесами худую, голодную корову; и сам красильщик, оказавшийся вдруг — а может быть, и давно уже — рогатым благодаря коровьим рогам, торчащим из-за его головы; и пара детей, нелепо пародирующая пару супружескую: мальчик держит в руках куколку, как красильщик — заснувшую дочь, а девочка, как красильщица, — веер. Много в этой картине забавного, но не в пример предыдущему полотну здесь ничто и ничему не мешает, из маленьких и комических подробностей складывается живое ощущение целого — картина разморенного жарким днем лондонского предместья, где все проникнуто снисходительным юмором художника, которому лень смеяться слишком зло. И как тут много «доброй старой Англии», ведь так откровенно любуется Хогарт классическим плющом, и покатыми холмами вдали, и высокими крышами коттеджей, подымающимися над сумрачной листвой деревьев. Но вечер, настоящий вечер близится. И тут уж — в последней картине «Ночь» — Хогарт перемешивает все, варит дьявольский пунш из откровенной сатиры на знаменитых лондонцев, поэтического городского пейзажа, блестящих светотеневых эффектов и, что разумеется само собою, из сотни смешных или страшноватых нелепостей, которых здесь больше, чем в трех предшествующих картинах, вместе взятых.