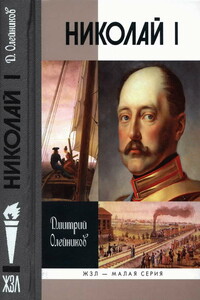Бенкендорф | страница 30
«Истинное удовольствие, — признаётся Бенкендорф в записках, — находиться среди этого свободного, воинственного народа, управляемого своими собственными законами, не имеющего иного страха, кроме страха каких-либо в своей жизни перемен, и иного желания, чем всегда оставаться в том состоянии, в котором он находится. Невольно думалось: насколько же у нас мало правительств, достаточно мудрых и либеральных, для того, чтобы народ не желал никаких изменений!» В этом пассаже впервые проявляются консервативные черты мировоззрения Бенкендорфа: казачьи порядки представляются ему идеальным общественным устройством, а их носители — достигшими золотого века, для которого любые перемены будут ухудшением, а не улучшением. Сам казак — одновременно воин и гражданин — кажется нашему наблюдателю примером для армий всех стран. Там — «несчастные наёмники», оторванные от семьи и родного очага, гнущие шею в казармах и лагерях, ради защиты своих соотечественников перестающие быть членами общества; здесь — воины, готовые идти в бой по первому призыву императора, но при этом возвращающиеся к своим родным, в свои дома, на землю, которую знают с детства.
Такое состояние достигается, по Бенкендорфу, мудрой деятельностью «либеральных» правительств. Конечно, здесь имеется в виду вовсе не политический либерализм (такого термина в то время и не существовало). Бенкендорф понимал «либерализм» как терпимость и понимание.
В столице Войска Донского, Черкасске, золотой век воплотился наиболее зримо. Казаки, казачки, лошади, даже казачья кухня — всё казалось Бенкендорфу совершенным. С неохотой покидал молодой поручик Донские земли.
Путь экспедиции лежал на юг, степями, к столице новообразованной Кавказской губернии, городу Георгиевску. Большой Черкасский тракт — главная в то время сухопутная дорога на Кавказ — шёл вдоль пограничной Кавказской линии, протянувшейся во времена императрицы Екатерины II от Азова через Ставрополь к Моздоку. Между девятью крепостями этой линии каждые 25–30 вёрст располагались редуты или форты, а каждые 3–5 вёрст — казачьи пикеты. Поскольку это была ещё и граница христианского и мусульманского миров, императрица повелела дать крепостям имена святых: Святой Екатерины, Святого Павла, Святой Марии, Святого Александра Невского… Крепость Святого Георгия стала городом Георгиевском.
В этой небольшом административном центре края с крутого обрыва над рекой Подкумок Бенкендорф мог наблюдать Главный Кавказский хребет от Казбека до Эльбруса (Шатгоры, как называли её местные жители). Он видел не просто горную цепь, но «предел побед Александра Македонского» и «границу рабства, которое Рим навязал народам», одновременно и каменные ворота, через которые проходили бесчисленные полчища завоевателей, и гигантский склеп для многих канувших туда армий…