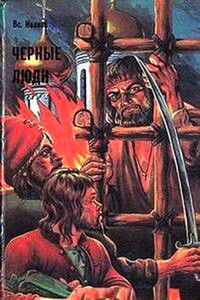Александр Пушкин и его время | страница 70
Пока Пушкин заканчивал письмо, стемнело; Никита неслышно возился за спиной, налаживал свечи в начищенные подсвечники. Небо пылало закатным заревом, озеро отражало его сквозь зелень сада… В раскрытое окно пахло горьковато осенним воздухом, дымом кизяков… Как недвижные монахи, чернели высокие тополя. Вечерний благовест. Под окном возня, звон цепочки, орлиный клекот: усатый инвалид уводит орла на ночевку в сарай, тот, бедняга, ковыляет, машет подрезанными крыльями. Ах, как глупо! Как смешно! Да разве орлы спят? А усач тащит его спать. Орла, что в своих лапах носит по небу за Юпитером его молнии. Усач судит бедняга, по-своему!
Пушкин сжал крепко ладонями голову. Ах, Кишинев! Ну, Кишинев! От него можно сойти с ума. Кружится голова, бьется сердце как от турецкого кофе. Как жить? Как не завязнуть в этой кофейной гуще?
Пушкин перечитал свое письмо к Левушке, сложил, подписал адрес, запечатал гербовым перстнем, вдавив топаз в кипящий сургуч, с облегчением бросил на стол: почта уходила утром. Сидел в драном сафьяновом кресле, отдыхал. Закат быстро гас, тополя тонули во тьме. Письмо брату облегчило душу.
— А того письма, что начал было раньше, не стоит Посылать! — решил он.
Второе письмо все же дошло до нас в черновике, на пухло-серой бумаге, с толстыми росчерками гусиного пера… Писано оно в стиле посланий «Арзамаса»:
«…Мы, превосходительный Рейн и жалобный сверчок, на лужице города Кишинева, именуемой