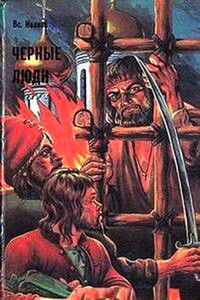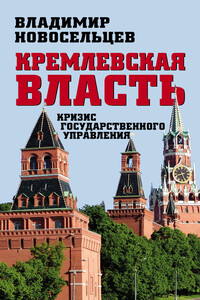Александр Пушкин и его время | страница 40
«А ведь этот инвалид — природный мужик. Крестьянин. Хлебопашец! — думал Пушкин. — Что сделали с ним двадцать пять лет его военной службы? Пугало, которого все боятся! Все замирает перед ним… Маленький Аракчеев! Откуда он, этот деспотизм в кротко молчащем русском народе?»
Неотрывно наблюдая в окно сцены у шлагбаума, Пушкин выпил чаю, закусил холодной телятиной. Подорожная была уже прописана суетливым, на одну ногу припадающим станционным смотрителем в зеленом мундире, лошади запряжены, когда высокая тощая цыганка в пестром своем наряде, в широких складчатых юбках, в звенящих монистах вошла на двор станции. Позванивая бубном, сверкая глазами и зубами на смуглом лице своем, она стала под раскрытыми окнами, и среди гула станционного шума, криков ямщиков, команд инвалидов, побрякивания колокольцев раздался ее надтреснутый, низкий голос вперемежку с бормотаньем бубна:
Пушкин вскочил со стула, высунулся в окно. Точно! Это был его «Романс». Три года назад, еще в Лицее он писал его…
Мощный голос певицы был хрипловат, звучал то колоколом, то звенел надтреснуто, и этот голос неизвестной бродячей цыганки пел стихи Пушкина. У соседнего окошка заслушался проезжий по казенной надобности офицер, перестав требовать огня, сосал погасшую трубку. Замерла суетня во дворе, приостановился, замер ямщик с уздечкой в руке.
Пушкин усмехнулся: вспомнил «прелестную креолку» — свою матушку, Надежду Осиповну… Или это про себя писал он? Не был ли сам он подброшен кукушонком из родной своей семьи в пуховое, раззолоченное гнездо чужого Царского Села?
— Александр Сергеевич! Ехать давайте, — тихонько подошел Никита, он убирал дорожный погребец. — Ишь поет!
Сладкое чувство захватило поэта. Ведь это же его слушали. Почтовый двор слушал его.
Народ слушал, и цыганка пела для народа:
Порывшись в бисерном кошельке Оленькиной работы, Пушкин выхватил серебряный рубль с царем Александром Первым с одной стороны, а с другой — с надписью в память победы 1812 года: «Славный год сей минул, но не минут содеянные в оном подвиги».
— Эх! Досадно, а другого нет!
Зажав его в ладонь, выскочил на крыльцо к цыганке: — Держи, красавица!