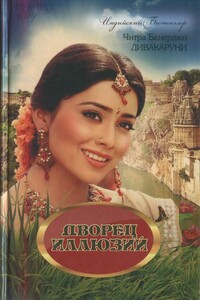Сестра моего сердца | страница 20
Но моя мать не была счастлива и даже не скрывала этого, как в начале замужества. Не заботило ее и то, что ребенку, находящемуся в утробе матери, передается все, в том числе и материнская печаль. Казалось, Налини было всё равно — какое-то странное отчаяние овладело ею. Когда ее ноги стали опухать и фигура начала терять былую стройность, всё больше напоминая огромный бесформенный мешок, мама поняла, что теряет свое единственное богатство — красоту, а вместе с ней и свой единственный шанс в жизни. Она чувствовала, что дальше будет только хуже. Мама знала, что обречена состариться и умереть в чужом доме, в котором жила последние три года, и ее упреки становились всё злее. «Ты мужчина или букашка? — кричала она на моего отца. — Как долго еще ты собираешься клянчить еду у своего кузена, пользуясь его добротой? Сколько еще ты собираешься гоняться за призрачными мечтами, как собака, пытающаяся поймать свою тень? Почему ты не хочешь пойти работать, как все мужчины? Неужели ты не видишь, как на нас смотрит даже прислуга, как нас обсуждают на кухне? У них нет ни малейшего уважения к нам». И, наконец. «Да если бы ребенок знал, какой у него будет отец, ему бы стало стыдно за тебя, он бы предпочел умереть, чем иметь такого отца, как ты!»
Сначала папа пытался не обращать внимания на эти слова — ведь мама на самом деле так не думала. Все знают, какими несносными бывают беременные: из их глаз течет вода, а с языка срывается пламя. Когда по вечерам отец сидел с Биджоем на террасе и играл на флейте, тьма охлаждала кожу и была похожа на тихую и глубокую воду озера, на котором появлялась легкая рябь от звуков флейты.
Но слова о ребенке сильно ранили его, мысли об этом отравляли ему жизнь, словно в его кровь впрыснули яд.
И вот однажды рано утром, когда даже прислуга еще не проснулась, мой отец ушел и пропал на три дня. И когда взволнованный Биджой уже собирался пойти в полицию заявить о пропаже брата, отец вернулся с рубином.
— На заходе солнца Гопал, распахнув ворота, мчался по подъездной дорожке, посыпанной галькой, — продолжала Пиши. — Последние солнечные лучи играли на его взъерошенных волосах. Двухдневная щетина покрывала его лицо, а одежда была вся в грязи. Но его глаза сияли, как у пророка или у сумасшедшего. Он, смеясь, закричал, чтобы мы поскорее пришли и посмотрели, что он принес.
На его ладони лежал рубин, сияющий, как лед и огонь одновременно, как слеза Джатайю, мифического дракона-птицы. Камень был таким большим, что у каждого, кто его видел, перехватывало дыхание от восхищения, и даже моя мать слушала рассказ мужа о пещере, не проронив ни слова.