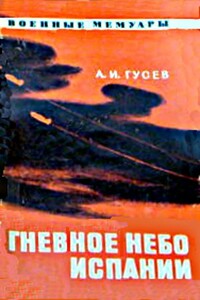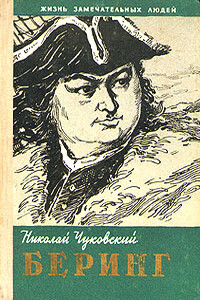Император. Шахиншах | страница 60
Камера запечатлевает площадь, заполненную до краев, голова к голове. Фиксирует полные любопытства и сосредоточенности лица. В одном месте, в сторонке, отделенные от мужчин ощутимо исходящим от них предупреждением, завернувшись в чадру, стоят женщины. День пасмурный, серый, цвет толпы темный, там же, где женщины, – черный. Хомейни одет, как всегда, в темные просторные одежды, на голове – черный тюрбан. У него застывшее бледное лицо и седая борода. Когда Хомейни говорит, его руки покоятся на подлокотниках кресла, он не жестикулирует. Он не наклоняет ни головы, ни тела, пребывая в неподвижности. Лишь время от времени хмурит высокий лоб и воздымает брови, помимо этого ни один мускул не дрогнет на этом крайне решительном и непреклонном лице человека колоссального упорства, категорической и беспощадной воли, которая не признает компромиссов и, возможно, даже сомнений. На этом лице, как бы отлитом в форму раз и навсегда, неизменном, не подверженном никаким эмоциям и настроениям, не выражающем ничего, кроме напряженного внимания и внутренней сосредоточенности, в постоянном движении пребывают только глаза: живой изучающий взгляд скользит по кудрявому морю голов, охватывает все пространство площади, самые удаленные ее края, продолжает дальше свое детальное обследование, словно настойчиво ища нечто конкретное. Я слышу монотонный голос аятоллы, с глухой интонацией, с ровным, медленным ритмом, мощным, но без полета, без темперамента и блеска.
– О чем он говорит? – спрашиваю я картежников, когда Хомейни на минуту смолкает, обдумывая следующую фразу.
– Он говорит, что мы должны сохранять достоинство, отвечает один из них.
Оператор тем временем переводит камеру на крыши близлежащих домов, где стоят юноши с автоматами, головы их обернуты полосатыми платками.
– А что он говорит теперь? – снова спрашиваю я, ибо не понимаю языка фарси, на котором изъясняется аятолла.
– Он говорит, отвечает один, что в нашей стране не должно быть места для чуждых влияний.
Хомейни продолжает выступление, все слушают его с неослабным вниманием, на экране видно, как кто-то утихомиривает столпившуюся у возвышения детвору.
– Что он говорит? – снова спрашиваю я минуту спустя.
– Он заявляет, что никто не посмеет распоряжаться в нашем доме и что-то нам навязывать, и еще говорит: будьте братьями, сохраняйте единство.
Вот и все, что они могут мне сообщить, пользуясь корявым и ломаным английским языком. Все, кто изучает английский язык, должны знать, что с его помощью все труднее изъясняться на свете. Точно также все труднее объясняться по-французски и вообще на каком-нибудь европейском языке. Некогда Европа господствовала над миром, рассылала своих купцов, солдат, миссионеров и чиновников по всем континентам, навязывая другим свои условия и культуру (последняя пока в проблематичной форме). Даже в самом отдаленном уголке земли знание европейского языка служило тогда свидетельством хорошего тона, говорило об основательном воспитании, а часто оказывалось жизненно необходимым, основой служебного продвижения и карьеры или хотя бы условием, чтобы нас почитали за человека. Этим языкам обучали в африканских школах, на них говорили в парламентах экзотических стран, ими пользовались в торговле и в учреждениях, в азиатских судах и в арабских кафе. Европеец мог путешествовать по всему свету, чувствуя себя как дома, всюду мог произнести фразу и понять, что ему ответили. Ныне мир стал иным, на зеленом шаре расцвели сотни патриотических движений, каждый народ предпочел бы, чтобы его страна была лишь его собственностью, организованной согласно родной традиции. У каждого народа теперь амбиции, каждый является (по крайней мере хочет быть) свободным и независимым, дорожит собственными ценностями и добивается уважительного к ним отношения. Можно заметить, как в этом вопросе все сделались ранимы и чутки. Даже малые и слабые народы (они, впрочем, особенно) не переносят, чтобы их поучали, и возмущаются теми, кто хотел бы властвовать над ними, навязывая им свои ценности (часто действительно сомнительные). Люди могут отдавать должное чьему-либо могуществу, но предпочли бы выражать свои эмоции на расстоянии и не желают, чтобы эта мощь опробовалась на них. У любого источника подобного могущества своя динамика, своя властная и экспансивная тенденция, своя грубая назойливость и просто потребность положить слабого на лопатки. В этом проявление закона силы, всем об этом известно. Но как поступить слабому? Он может лишь отгородиться. В нашем плотно населенном и агрессивном мире слабому, чтобы уцелеть, удержаться на поверхности, надо обособиться, отойти в сторону. Люди боятся, что эта стихия поглотит их, что они окажутся ограбленными, что обезличится их походка, их лица, взгляды, речь, что их заставят одинаково думать и реагировать, проливать кровь за чужие интересы и в итоге окончательно их истребят. Отсюда их протест и бунт, их борьба за свое существование и за сохранение родного языка. В Сирии закрыли французскую, во Вьетнаме – английскую газеты, а теперь в Иране французскую и английскую разом. По радио и телевидению передачи ведутся только на родном языке – фарси. Пресс-конференции точно так же. Аресту подлежит каждый, кто не в состоянии прочесть в Тегеране вывеску над лавкой с дамским бельем, куда вход мужчинам запрещен. Погибнет и тот, кто не сможет прочесть предупреждение под Исфаханом: «Вход воспрещен. Мины!»