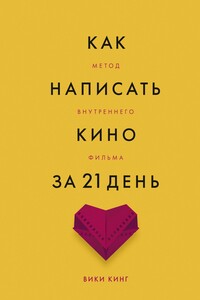Жертвоприношение Андрея Тарковского | страница 77
Тридцать пять фраз дебюта
Есть люди, которые не умеют формулировать свое знание в виде тезисов о знании, в виде формул, знаков, символов. Они формулируют свое незнание, они осторожно прикасаются, благоговейно всматриваясь, вслушиваясь и ощупывая, к трепещущему острову своего незнания сущего.
Для такого человека все является и становится загадкой, поскольку он тотчас входит в целостность, обходя рогатки внушенных обществом ограничительно-каркасных смыслов. А целостность есть то, что ощущают и созерцают, а не приговаривают к чему-то. Целостность невозможно к чему-то приговорить, целостность непоколебимо таинственна.
Приходит на ум пара эпизодов из воспоминаний друзей нашего героя. Студенческий ВГИК, А. Гордон: "Однажды поздно вечером мы шли к нему домой. Шли по тротуару, мимо деревьев, и фонари вели свою игру теней и света. Тени от ветвей и наших фигур появлялись перед нами, каруселью уходили под ноги, исчезали за спиной и снова сразу же возникали впереди. Упоение молодостью, самой жизнью, завораживающая экспрессия момента взволновали Андрея. Неожиданно он остановился, немного помолчал и сказал: "Знаешь, я все это сделаю, сниму! Эти шаги, эти тени... Это все возможно, это все будет, будет!" На всю жизнь я запомнил его таким - взволнованным и счастливым".
Второй эпизод - из воспоминаний А. Михалкова-Кончаловского: "Работая над сценарием "Рублева", мы поехали с ним в Грузию. Помню, как ночью, разговаривая, шли по дороге, и он все повторял: "Вот хотелось бы как-то эти лепесточки, эти листочки, понимаешь, клейкие... И вот эти гуси летят..." - "Чего же он хочет? - спрашивал я себя. - Давай говорить конкретнее. Давай подумаем о драматургии". А он все лепетал про лепесточки и листочки, среди которых бродила его душа. Но писать-то надо было действие".
Все это Кончаловский подает раздраженно, без всякого умиления. И с сожалением констатирует: "Видимо, уже тогда он отдался влечению интуиции, что вскоре и стало главным качеством его картин. Членораздельная речь в них стала уступать место мычанию".
Вот так. Впрочем, очень точно, если понять, что "членораздельная речь" - это речь с твердой установкой на конкретное восприятие, то есть речь, заранее внутренне цензурирования, а "мычание" - это целостность человеческого голоса, извлекающего архаическую мелодию своей интуиции. Косноязычие гениев, которое впоследствии объявляется внятной и "осмысленной" речью.
Кто еще, кроме Тарковского, мог бы сказать в конце творческого пути: "Я никогда не понимал, что такое кино. Многие, кто шел в институт кинематографии, уже знали, что такое кино. Для меня это была загадка. Более того, когда я закончил институт кинематографический, я уже совсем не знал, что такое кино, - я не чувствовал этого. Не видел в этом своего призвания. Я чувствовал, что меня научили какой-то профессии, понимал, что есть какой-то фокус в этой профессии. Но чтобы при помощи кино приблизиться к поэзии, музыке, литературе, - у меня не было такого чувства. Не было. Я начал снимать картину "Иваново детство" и, по существу, не знал, что такое режиссура. Это был поиск соприкосновения с поэзией. После этой картины я почувствовал, что при помощи кино можно прикоснуться к духовной какой-то субстанции. Поэтому для меня опыт с "Ивановым детством" был исключительно важным. До этого я совсем не знал, что такое кинематограф. Мне и сейчас кажется, что это большая тайна. Впрочем, как и всякое искусство. Лишь в "Ностальгии" я почувствовал, что кинематограф способен в очень большой степени выразить душевное состояние автора. Раньше я не предполагал, что это возможно..."