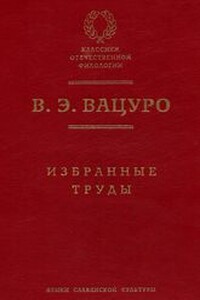«Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина | страница 70
И далее вопрос: верно ли, что Николая Тургенева привезли морем из Англии? «Вот каково море наше хваленое!»[153]. Цепь ассоциаций продолжилась и замкнулась — молчаливым отказом на невысказанное предложение.
Не пройдет и года, как следы этого диалога обнаружатся в «Северных цветах».
Но сейчас не поэзия занимает Пушкина.
Он пишет Вяземскому, что еще надеется на коронацию: «повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» — и отказывается посылать царю прочувствованное письмо: рука не поднимается.
Вяземский и на коронацию не надеется и специально уезжает из Москвы, чтобы не присутствовать на торжестве под тенью веревки.
А 3 сентября за Пушкиным приезжает по высочайшему повелению нарочный фельдъегерь.
Мы знаем — и не знаем — что произошло дальше. Покрытый дорожной пылью, не успевший прийти в себя после четырхдневного тяжкого пути, Пушкин предстает перед новым императором. Разговор с глазу на глаз в течение часа или двух — и вот уже новый царь представляет почтительным придворным «нового» Пушкина — прощенного Пушкина, «своего» Пушкина, — и обещает сам быть его цензором.
«Фасадной империи» нужны были театральные сцены. История царствования требовала исторических эпизодов и исторических слов.
Подлинная история была обыденнее, страшнее и глубже. Она включала молчаливые драмы в затерянном в псковской глуши михайловском домике, рисунки отяжелевших трупов на перекладине, оборванную запись «и я бы мог…». Она хранила в своих недрах признание Пушкина царю, что он был бы «с ними», и глухие слухи о каких-то стихах против правительства, которые Пушкин привез с собою в Москву. И вместе с тем: «каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости»[154]. Это была совершенно официальная декларация Пушкина, провозглашенная еще 7 марта в письме к Жуковскому. Формула вынужденного смирения, которая оставалась неизбежной и сейчас, но теперь, после разговора с царем, приобретала новые черты. «Необходимость» была не просто условием самосохранения; за этим словом стоял некий исторический закон, в силу которого победило правительство. Он был жесток, но его нельзя было ни изменить, ни отвергнуть.
Правительство предложило Пушкину договор — и поэт его принял. Ему предстояло теперь жить и действовать в новых условиях — и на новых условиях. Но он не собирался «сидеть тихо», как Греч.