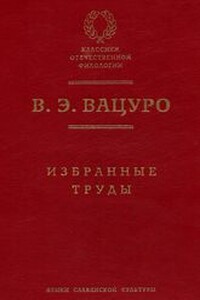Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг. | страница 30
(III, 63–68)
(«Вечно стоит <конь>, скачет, но не падает. Подобно летящему с гранитов водопаду, Который, скованный морозом, повис над пропастью — Но скоро заблестит солнце свободы, И западный ветер согреет те государства, — и что станется тогда с водопадом тирании?»).
Ю. Кляйнер высказал предположение, что это уподобление может восходить к «картинке» в «Полярной звезде на 1824 год» — иллюстрации к «Водопаду» Державина, где изображен рыцарь на фоне водяного каскада[105]. Но ни «Водопад», ни иллюстрация не содержат самого существенного — изображения водопада, скованного льдом. В. Ледницкий склонен был усматривать источник образа в стихах Тютчева «14-ое декабря 1825», где говорится о вековых льдах, которые не смогла растопить «скудная» кровь жертв[106], но знакомство Мицкевича с этими стихами проблематично — и, кроме всего прочего, в них есть «лед», но нет «водопада».
Между тем существует стихотворение, в котором есть как раз искомый нами образ, организующий все художественное целое. Это «Надпись» Баратынского, адресатом которой долгое время без больших оснований считали Грибоедова:
Строчка Мицкевича «…kaskada, Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie» производит впечатление прямого перевода строк 5–6.
Знакомство Мицкевича с этим стихотворением вполне вероятно. Оно было напечатано впервые в «Северных цветах на 1826 год» (где был и упоминавшийся выше отрывок из «Цыган»), а затем вошло в раздел «Смесь» сборника «Стихотворения Евгения Баратынского», изданного Н. Полевым в Москве в 1827 г. Как раз на протяжении 1826–1827 гг. происходит личное знакомство Мицкевича и Баратынского и укрепляются их литературные контакты; они видятся в Москве — у Полевых, в салоне Зинаиды Волконской. Стихи Баратынского 1828 г. «Не подражай: своеобразен гений…», вызванные появлением «Конрада Валленрода», очень выразительное свидетельство того пиетета, с которым русский поэт относился к творчеству Мицкевича. Материалы, опубликованные в последнее время Ю. Малишевским, расширяют уже известную нам картину и дополняют ее новыми данными; из них следует, что личность и поэзия Баратынского также были предметом особого внимания в ближайшем литературном кругу Мицкевича