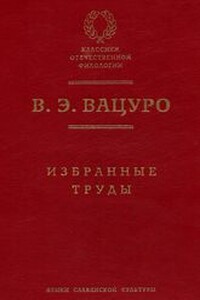Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг. | страница 27
4. «Водопад тирании»
Символическая художественная тема снега и льда, безлюдной белой пустыни — одна из сквозных в «Отрывке из III части „Дзядов“». На ней построена «Дорога в Россию», где впервые намечается образ скованного льдом моря. Ветер беснуется в снежных полях, море снега («morze śniegów»), взметенное вихрем, поднимается со своего ложа и снова падает, как будто внезапно окаменело («jakby nagle skameniałe»), огромной белой безжизненной массой. Над этими стихами (44–47) Мицкевич работал особенно тщательно; в ранней редакции лавина снега («fala śniegów») сравнивалась с окаменевшим морем («jak gdyby morze skameniałe»)[95]. По этим пространствам летит повозка изгнанника. Это отдаленная вариация мотивов знаменитой 10-й элегии из III книги «Tristia» Овидия. «Лед» и «снег», окружающие поэта, у Овидия тоже особая, символическая пейзажная тема[96] — и так же связанная с темой чужбины, враждебной ссыльному; в этой элегии мы находим и упоминание о Борее, оледеняющем снег, так что он делается вечным («Nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvant, Indurat Boreas perpetuamque facit» — ст. 13–14), и классический образ скованного льдом моря («Vidimus irrigen-tem glacie consistere pontum…» — ст. 36 и след.). Ассоциации приходили естественно и, конечно, поддерживались общением с Пушкиным, для которого Овидий был особой биографически-художественной темой; вспомним, что как раз в период их первоначального знакомства выходят из печати «Цыганы» (1827) — поэма, которую Мицкевич считал выдающимся произведением[97], а несколько ранее (1826) — «Стихотворения Александра Пушкина», где было перепечатано послание «К Овидию». И в «Цыганах», и в послании Пушкин опирался на упомянутые нами стихи из 10-й «печальной элегии»; отрывок об Овидии, кстати, был до выхода отдельного издания «Цыган» опубликован в «Северных цветах на 1826 год».
Трудно сказать, бывал ли Овидий предметом литературных бесед двух поэтов-изгнанников, посетивших почти одни и те же места юга России, поблизости от предполагаемого места ссылки и захоронения Овидия[98]. Уже одни биографические аналогии делают такое предположение вполне вероятным. Добавим к этому, что и Пушкин, и Мицкевич специально интересовались Овидием и как поэтом, и как исторической личностью; Мицкевич, как известно, хорошо знал элегии римского поэта в подлиннике и переводил их, намереваясь вместе с Ежовским издать антологию латинских классиков на польском языке