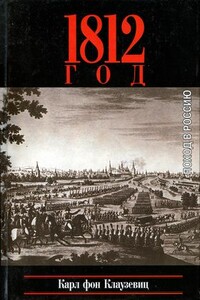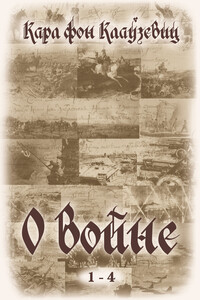О войне. Части 5-6 | страница 90
Что же можно противопоставить этому преимуществу при эксцентрическом действии сил? Очевидно, большую кучность группировки сил и действия по внутренним линиям. Нет надобности подробно развивать, каким путем это может сделаться таким множителем сил, что наступающий, не обладающий значительным численным превосходством, подвергается всем вытекающим из этого невыгодам.
Раз оборона воспримет принцип движения (это движение хотя и начинается позже, чем движение наступающего, но должно быть всегда достаточно своевременным, чтобы скинуть с себя оковы застывшей пассивности), то преимущество большей сосредоточенности и внутренних линий становится в высокой степени решающим и по большей части скорее ведущим к достижению победы, чем концентрическая форма наступления. А победа должна предшествовать успеху последней: надо преодолеть противника, прежде чем думать о том, чтобы его отрезать. Словом, мы видим, что здесь существует такое же соотношение, как и вообще между наступлением и обороной: концентрическая форма ведет к блестящим успехам, форма эксцентрическая более надежно обеспечивает свои успехи, наступление представляет собой более слабую форму с позитивной целью, оборона – более сильная форма с негативной целью. Таким образом, эти формы, как нам представляется, находятся в состоянии некоторого колеблющегося равновесия. К этому еще добавим, что оборона не является повсюду абсолютной и потому не всегда лишена возможности использовать свои силы концентрически; после этих замечаний надо думать, что по меньшей мере уже не будет оснований утверждать, будто бы одного концентрического способа действия достаточно для того, чтобы предоставить наступлению общий перевес над обороной. Это заключение освобождает нас от того влияния, какое указанная идея могла бы постоянно оказывать на наше суждение.
То, что мы говорили до сих пор, обнимало и тактику, и стратегию; теперь надо отметить один чрезвычайно важный пункт, касающийся одной лишь стратегии. Выгоды внутренних линий растут с увеличением пространства, к коим относятся эти линии. При расстоянии до противника в несколько тысяч шагов или полумилю, естественно, выгадываемое время не так велико, как при расстоянии в несколько переходов или в 20–30 миль; первые, т. е. небольшие, пространства принадлежат тактике, большие же – стратегии. Правда, в стратегии для достижения цели требуется и больше времени, чем в тактике: армию нельзя преодолеть так скоро, как батальон; однако нужный промежуток времени увеличивается в стратегии лишь до известного предела, а именно до продолжительности одного сражения, и во всяком случае не превосходит тех двух-трех дней, в течение которых можно уклоняться от сражения без существенных жертв. Далее наблюдается еще более крупное различие в самом выигрыше времени, который получается в том и в другом случае. При малых расстояниях в тактике, т. е. в сражении, передвижения одной стороны происходят чуть ли не на глазах другой; сторона, действующая по внешним линиям, очень скоро усмотрит маневр противника. При более значительных расстояниях в стратегии очень редко может случиться, чтобы какое-нибудь движение не оказалось скрытым от противника по крайней мере в течение суток; довольно часто имеют место случаи, когда оно остается нераскрытым в течение недель, особенно если переброска распространяется лишь на часть сил и совершается на значительном удалении. Легко понять, как велика выгода скрытности для того, кто по самой природе своего положения более всего имеет возможность ее использовать.