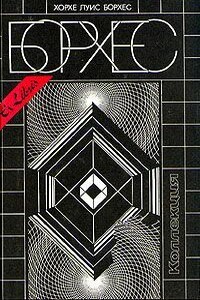Записки брюзги, или Какими мы (не) будем | страница 36
Мы все больше говорим на разных языках. Потому что в области морали не существует тактики и стратегии. Сталин раз позвонил Пастернаку, спросил: «А что ви думаитэ о Мандэльштаме?» – Тот замялся: «Видите ли, Иосиф Виссарионович, дело в том, что…» – Сталин оборвал: «Спасибо, товарищ Пастэрнак…» – и повесил трубку. И Мандельштама не стало. И мой студенческий друг, поэт Толик, поведавший когда-то этот примечательный факт, остался вне борьбы и неборьбы: он просто умер от сахарного диабета. Во времена Андропова все были уверены, что он далеко пойдет.
У вас все в порядке с сахаром в крови?
Вы, надеюсь, намерены жить вечно?
Корабли лавировали?
И Толстой, по-вашему, с ума сошел – бежать в Осташкове?
Тогда ура.
Мужская трусость всегда исторически конкретна, как и любая истина.
Я больше не буду талдычить на смешную тему морали.
Эта моя колонка для GQ – последняя. Я не уполз в чистую политику из критики чистого разума, который, несомненно, отвечает в человеческом организме за мораль. Но порой в жизни надо все же делать повороты, не позволяющие плыть по прежней реке.
Увидимся где-нибудь там, в море.
2004
Часть 2
Практически чистая «социалка»: статьи в «Огоньке»
Какими мы (не) будем
Я все понимаю.
Но: почему ОНИ заворачивают пульты от телевизоров в полиэтилен? Почему ОНИ зиму переживают, а не живут? И почему ОНИ на черный день копят, но никогда не тратят?
Пятнадцать лет назад ОНИ были поколением моей бабушки.
Сейчас ОНИ – поколение моей мамы.
Пятнадцать лет назад я думал, что с ИХ уходом исчезнет слой людей, проклинающих государство и одновременно уповающих на него, инфантильных до детскости, тяготеющих к коммунальной жизни, голосующих за КПРФ, ненавидящих соседа за пенсию на рубль больше, хитрящих по мелочам, путающих миллиард с миллионом, которые одежду берегут, а не носят…
Я заранее оплакивал ИХ уход, потому что такими, или почти такими, были мои бабушка и дедушка, которых мне до безумия не хватает. Разве для любви нужны аргументы?
Сейчас я знаю, что ОНИ самовоспроизводятся.
Меня это пугает.
Неужели через двадцать лет МЫ тоже будем замачивать белье, чтобы «не перегружать» машину, смотреть мыльные оперы, смеяться над Петросяном и осуждать падение нравов?
На пенсию в пятьдесят пять, в шестьдесят – это планка, установленная так, что веришь: Брумель умер и никогда не жил. Ранняя старость воспринимается как должное, как андипал, амалгел, энзистал, старческий валокордин.
– Доча, я человек старааай, мне скоро шестьдесят, – звонят на «Радио России» моей коллеге, рассчитывая на ириску сочувствия.