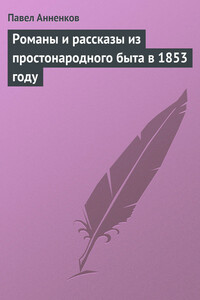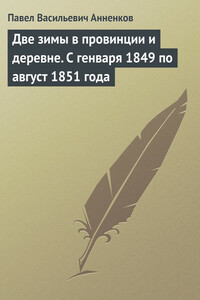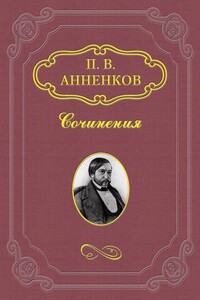Последнее слово русской исторической драмы «Царь Федор Иванович», трагедия графа А.К. Толстого | страница 12
Оставалось уловить специальный, так сказать, характер и подробности этого драматического столкновения; но для того, чтоб оно имело реальный вид, свойственный историческому делу, необходимо было связать его с живыми типами. В области искусства одни только типы сообщают достоверность как содержанию произведения, так даже и историческому факту, если он составляет часть содержания. К сожалению, и князь Шуйский, и Борис Годунов выражают великолепно у автора драмы свои противоположные качества, – один – исходя из понятия о себе как о честном, родовитом боярине, другой – понимая свое назначение в русской истории, но до типов, в настоящем смысле этого слова, они не выросли и не выросли вследствие именно слишком большого великолепия своих признаний и откровений.
Чего ждет читатель от образа благородного консерватора тех времен? Не нужно быть ни поэтом, ни художником, для того чтобы отвечать на этот вопрос. Мы ждем в подобном лице отражения всех тех увлекательных сторон русского быта, за которые люди клали свои головы и готовы были жертвовать не только своим существованием, но и существованием своих семей и родов. Нам необходимо видеть в нем пример, как люди этого порядка жили на основании собственных начал, по каким соображениям считали они свои убеждения залогом народного единства и величия и как относились к закоренелому невежеству, диким страстям и коварным, предательским замыслам, которые собирались, заведомо для истории, под знаменем этих же самых начал. Ничего подобного мы не узнаем от князя Ивана Шуйского, представленного графом Толстым. Вместо ответа на эти запросы, мы имеем тут откровения совсем другого рода. Князь Иван Шуйский является рыцарем с такими идеально-высокими качествами души, что они мешают ему быть главой партии и особенно не дозволяют нести на себе обязанности вожака недовольных умов. Он так чувствителен к обаянию теплого женского слова (царицы Ирины во II-м акте), проявлению прямого душевного благородства (царя Федора), так безоружен, когда взывают к его чести и честному слову, что под первым впечатлением два раза жертвует умилению своим делом, собою и многочисленными своими сторонниками. Особенно