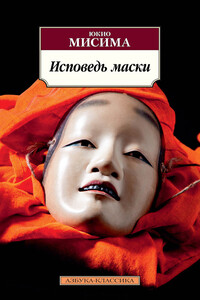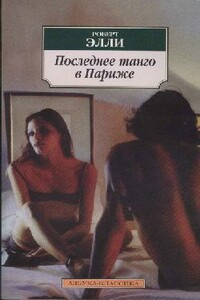Французские тетради | страница 71
Радость жизни, которую вернуло Франции Возрождение, была связана с мыслями о быстротечности всего, с легкой печалью, свойственной искусству Древней Греции. Однако по своему душевному складу Ронсар был поэтом полудня, лета, душевного веселья.
Моим любимым поэтом французского Возрождения я, однако, назову не блистательного Ронсара, а его близкого друга Иоахима Дю Белле. Они вместе возглавляли новую школу, которую назвали «Плеядой». Величье Ронсара как бы мешало рассмотреть тихого и чрезвычайно скромного Дю Белле. Их роднила не только поэзия: как и Ронсар, Дю Белле страдал глухотой. Судьбы их были, однако, различны. Дю Белле умер в возрасте тридцати восьми лет, и знали его только немногие ценители поэзии. Ронсар прожил шестьдесят один год, стал придворным поэтом Карла IX, вкусил славу.
Если снова припомнить Пушкина, то можно сказать, что Дю Белле рядом с Ронсаром казался Баратынским рядом с Пушкиным. Баратынский писал:
Необычайно близки к этому признания Дю Белле:
Не следует продлевать сравнения: Баратынского отличали от Пушкина и его душевная настроенность — он был по природе мрачен, и мироощущение — он не верил в будущее человечества. Дю Белле и Ронсар были во многом сходны, оба пережили глубокую радость Возрождения, оба испытывали ту легкую, почти неуловимую печаль, которую принесло людям освобождение от их вчерашних верований, оба мучительно переживали кровавые столкновения и внутренние противоречия своего времени.
Дю Белле я полюбил как поэта, сумевшего в своих глубоко личных поэтических признаниях выразить нечто близкое нам, подымающегося над границами и времени, и пространства. Белинский очень точно определил ту радость, которую приносят нам стихи любимых поэтов: «…В созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слово и что, следовательно, поэт умел только выразить». Определение поэзии как глубокого и полного выражения мыслей и чувствований поэта иным кажется апофеозом отъединенности, даже отторжения, противопоставлением одного всем. Конечно, если поэт, даже обладающий подлинным даром, душевно искалечен, живет своим внутренним уродством, видя в нем своеобразие, его стихи смогут взволновать только узкий круг людей, страдающих тем же душевным недугом. Но разве не является глубоким выражением себя лирика Гейне, Лермонтова, Верлена, Блока? А их стихи понятны всякому, любящему поэзию.