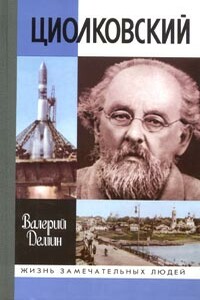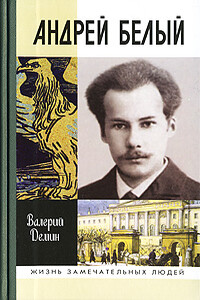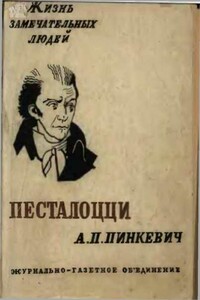Бакунин | страница 42
Разумеется, Белинского не могли не поразить образованность и эрудиция сестер Бакуниных. Однако, как ни странно, именно это отрицательно повлияло на развитие его личных отношений с Александриной. От женщины он ждал не высокоумных рассуждений на разные темы, а нечто иного — связанного прежде всего со сферой чувств и страстей. «Эта девушка, глубокая по натуре, светлое, чистое, полное грации создание, но ее натура искажена до последней возможности, без всякой надежды на исправление, — написал Белинский об Александрине. — Она давно отвыкла от жизни сердцем, и сердце у нее — покорный слуга воображения. Воображение живет в голове, следственно, голова у нее повелевает сердцем. <…>».
В письме к Михаилу (Виссарион жутко ревновал, когда тот по-братски обнимал Александрину за талию) он упрекнул уже всех четырех его сестер в том, что они якобы «оставили гармоническую сферу женщины, кинулись в чуждую им область мысли и сделались вследствие этого гордыми, холодными, человеконенавистными». Вот так, не больше, не меньше — «человеконенавистными». Вряд ли был прав «неистовый Виссарион». Ответ и справедливую отповедь он получил не от друга, а от Александрины (ей Мишель необдуманно показал злополучное письмо):
«Виссарион Григорьевич! Слезы невольно полились из глаз моих, когда я читала письмо Ваше; Вы мало знаете или, лучше, совсем не знаете меня. Поверьте, не презрение, не сожаление питаю я к Вам, но мое чувство, если и не то, которое бы Вам могла дать другая женщина, — истинно, свято. Всегда желала я сблизиться, говорить откровеннее с Вами, — мне казалось, что Вы не поймете горячего, живого моего участия, что Вы примите его за насмешку, за жалость, и я останавливала себя, даже осуждала, не понимала в себе эту потребность сблизиться с человеком, которого надежды, желания я не могу исполнить. Часто говорила себе, что Вы не меня любите, но особенное прекрасное существо; я далека от него, под моим именем Вы мечтаете о другой, и я молю Бога, чтобы Вы ее встретили в этом мире, чтобы она дала Вам то, что я не могла дать, чтобы искупила страдания Ваши любовью своею. И Вы простите, забудьте тогда невольные мои оскорбления против Вас.