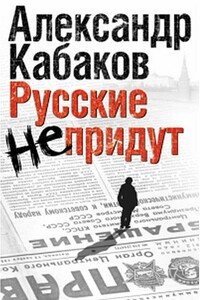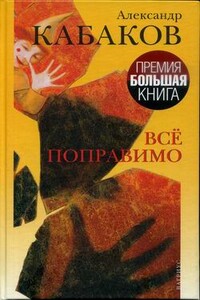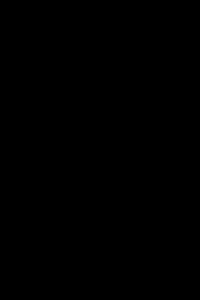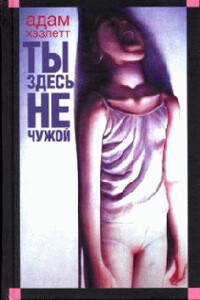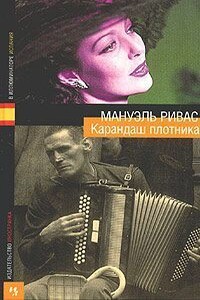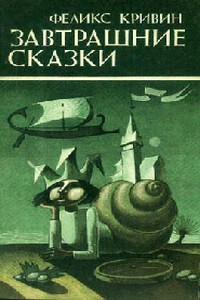Стакан без стенок | страница 44
Не видел он и ментов, приехавших по звонку врача «скорой» и теперь изумленно разглядывающих селедочные банки и всё остальное вооружение Семенова. «Надо ж столько пневматики и макетов накопить, – завистливо усмехнулся молодой сержант, – целым двором можно в войнушку играть. А в бункере штаб шикарный получится…»
День набирал силу, Дом продолжал рассыпаться, игрушечный арсенал увезла полиция. Алёна вызвала такси и поехала в город, в квартиру на Октябрьском Поле.
Там Семеновы и теперь живут. Алёна мечтает возродить свой СПА-бизнес, в чем мы горячо сочувствуем бедной женщине, довольно она намучилась в проклятом Доме. А Иван, увы, с интересом поглядывает на бритоголовых молодых людей в коротких куртках и высоких ботинках. И не сам по себе этот интерес, естественный для юноши, настораживает, а выражение лица Ивана, когда он смотрит на лево-правых борцов за справедливость: сосредоточенное и закрытое. Генетику-то никто не отменял…
По выходным мать и сын ездят в больницу на Преображенке и гуляют по больничному парку с мужем и отцом.
Петр Иванович Семенов искренне говорит им, что совершенно доволен нынешним своим положением. В больнице он чувствует себя надежно защищенным от любого пламени, которое может, того и гляди, возгореться на воле от любой случайной искры, например от конфликта в метро между болельщиками футбольных команд. А больница стоит за крепким забором, не бетон, конечно, но все же… Поэтому Семенов убедительно просит семью переехать к нему, палата просторная и соседи симпатичные, возражать не будут.
Тут Алёна начинает плакать, Иван отворачивается, и, быстро простившись с больным, они уходят.
Плачет Алёна и по дороге к метро: ей жалко мужа, сына и себя. Пламя вспыхнуло, не дожидаясь искры, и сожгло их прекрасную жизнь. В той жизни ранним весенним утром Петр Иванович Семенов уходил на службу в банк… Все исчезло. Прав был Петя, думает Алёна, разность потенциалов все погубила. Прав был Петя, думает Алёна, и плачет.
Ночь пути
Действие происходит в начале семидесятых.
То есть около сорока лет назад.
Да, жизнь моя теперь измеряется непостижимыми цифрами…
Я служил тогда старшим литсотрудником – были такие должности в наших периодических изданиях – газеты «Гудок», органа Министерства путей сообщения СССР и Центрального комитета профсоюза железнодорожников. Как многие знают, в ней примерно за полвека до меня служили другие молодые люди, ставшие потом советскими литературными классиками, а тогда безвестные приезжие с юга Ильф, Петров, Булгаков, Олеша… Этому их скоплению имелось совсем не метафизическое, а практическое объяснение: могучее транспортное ведомство располагало огромными возможностями, потому в железнодорожную газету брали кого попало, в том числе бесприютных и не совсем пролетарского происхождения южан, в основном веселых и пронырливых, втаскивавших друг друга одесситов – лишь бы могли ловко переписывать произведения рабочих корреспондентов. Будущие гении откровенно халтурили, в чем можно убедиться, обратившись к подшивке газеты за двадцатые годы, но при этом получали вожделенную комнатку-пенал в общежитии (см. «Двенадцать стульев») и приличные, по их меркам, деньги. Так вот, «Гудок» оставался и в мое время удивительной газетой по той же причине, туда по-прежнему брали на работу тех, кого ни в какую уважающую себя советскую газету не взяли бы, – евреев, беспартийных, разведенных, пьяниц горчайших… Работать в «Гудке» среди советских журналистов считалось непрестижным (не тогдашнее слово, а тогдашнее забыл), но таким отщепенцам, как мы, ходу в журналистике все равно больше никуда не было, да мы и не стремились. Платили в железнодорожной газете, между прочим, вполне неплохо и даже раз в год-два жилье кому-нибудь давали.