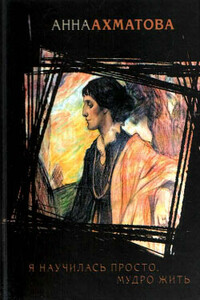«Юность». Избранное. X. 1955-1965 | страница 16
В мгновение ока мы разрушили эту конструкцию, дико хохоча, мы разорвали передачи, поломали колесики, поплясали на обломках и остановились, не зная, что делать дальше.
Дикой лежал ничком на земляном полу и плакал. И тут впервые перехватило мне горло от жалости к человеку, от нежности к нему, к его уединенной жизни, от невыразимого желания немедленно, сейчас же восстановить справедливость, сделать этого мальчишку сильным и гордым.
— Дикой, миленький, вставай! Ну давай мы вместе починим эту твою хреновину! — закричал я.
Он встал и вышел из баньки. Больше он туда не возвращался.
С того времени я взял его под свою опеку, не давал его обижать, не раз дрался из-за него, но он по-прежнему дичился, к себе не допускал.
В 1917 году в нашем селе стали появляться сначала эсеровские, а потом и социал-демократические агитаторы. Впервые мы услышали слова о равенстве, о справедливости и решили сколотить революционный отряд. Я звал Дикого в этот отряд, но он лишь улыбался и отмалчивался.
Через несколько месяцев мы ушли из села усмирять мятеж белых в Рязани. Я весь горел тогда, я жаждал немедленной справедливости для всех, хотел немедленно сделать своих односельчан свободными и гордыми, с волнением я сжимал в руках винтовку, не зная, что покидаю свое село навсегда. Дикого после этого я не видел, не слышал о нем да и не вспоминал.
И вот сейчас мы встретились. Я подсел к нему и предложил папиросу. Он не курил. Тогда в замешательстве пригласил я его в чайную выпить.
— Я не пью, Пал Петров, — сказал Дикой. — Давай просто так покалякаем.
— Давай покалякаем, — сказал я, закуривая. — Ну, как ты живешь, Адриян?
— Живу — хлеб жую. Ты-то как?
— Да я что, как ты?
— Я все тут, в Боровском.
— Как же это так? — спросил я. — Небось, помотало и тебя по белу свету немало?
— Обошлось, — сказал он. — Не сдвинули меня.
— Не может быть! — воскликнул я.
— В армию по здоровью не брали, — спокойно сказал Дикой, — а в тридцатом годе, когда с твердым решением пришли, так я им сам все добро отдал. И самовар, и граммофон, и зеркалу…
— Значит, у вас тоже были перегибы, — сказал я. — Допускалось искривление линии.
— Допускалось, — сказал Дикой.
— Неужели ты все шестьдесят четыре года в Боровском просидел?
— В Ухолово езжу. В магазин.
Мы замолчали. Дикой на меня не глядел, глядел по своему обыкновению в землю. Был он, видимо, смущен встречей со мной и ковырял землю чурбашкой. Потом вынул ножик, принялся чурбашку эту строгать.
«Так всю жизнь он и прострогал, — подумал я. — Ужас-то какой!»