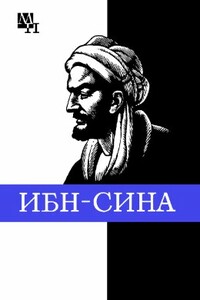Ибн-Рушд (Аверроэс) | страница 29
Ну а что же может означать первая часть парадоксального афоризма «каждый пророк есть мудрец»? Эти слова могут означать только то, что, поскольку откровение передается пророком прочим смертным в символической форме, каждый образ «священных» текстов ввиду отсутствия в них четкости, необходимой для научного рассуждения, может быть истолкован как иносказательное выражение научной истины — для этого требуется лишь их аллегорическое толкование, которое подходит к вероучению, как к набору метафор[5]. Кордовский мыслитель, конечно, ясно осознавал сложность стоявшей перед философами задачи, но это не мешало ему смотреть на перспективы ее решения с полным оптимизмом. У Ибн-Рушда был достаточно богатый опыт в юридической казуистике, и одно из главных его сочинений по мусульманскому праву выглядит как коллекция примеров, демонстрирующих возможность толкования соответствующих текстов в полярно противоположных значениях. Его оптимизм основывается на том, что «священные» тексты либо вовсе ничего не говорят о тех или иных вопросах, интересующих ученых; либо по своему буквальному смыслу не противоречат их взглядам; либо содержат в себе высказывания, сами находящиеся друг с другом в противоречии; либо выражают заключенные в них идеи в такой форме, что их можно толковать в каком угодно смысле; либо же прямо противоречат мнению ученых, но последние в таких случаях всегда могут сослаться на то, что это противоречие лишь иллюзорное, поскольку оно проистекает из буквального толкования «священных» текстов, что это лишь образносимволическая сторона их изложения, предназначенная для «широкой публики», и что сокровенный их смысл раскрывается только перед поборниками «демонстративного знания». Ибн-Рушд уверен, что посредством аллегорического толкования «священных» текстов ему удастся выдать хоть белое за черное, сославшись при этом на то, как обилен арабский язык омонимами и словами, допускающими толкование в диаметрально противоположных значениях. Кордовский мыслитель ссылается, в частности, на арабские слова, обозначающие одновременно яркий свет и кромешную тьму, громадное и ничтожное.
Можно было бы привести немало образцов переосмысления Ибн-Рушдом стихов Корана применительно к теориям перипатетиков (или попыток — из известных тактических соображений — представить диспуты теологов с философами как обыкновенный спор о словах), но будет достаточно проиллюстрировать этот способ «аргументации» лишь парой примеров, имеющих непосредственное касательство к решению основной задачи его трактата об отношении между философией и религией.