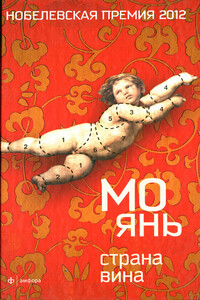Устал рождаться и умирать | страница 131
Мать не могла спокойно смотреть, как он мёрзнет, и за ночь сшила ему куртку на подкладке. А для поддержания командирского форса с помощью Хучжу скроила её наподобие армейской, даже вышила белыми нитками строчку по краю воротника. Но брат куртку надеть отказался. «Мама, — сурово сказал он, — что ты нюни распускаешь, как старуха? Враг может атаковать в любую минуту, мои бойцы на холоде, под снегопадом, а я буду один в тёплой куртке ходить?» Мать поглядела по сторонам — и правда «четверо стражей» брата и его подручные тоже щеголяют в псевдоармейской форме из холстины, покрашенной в жёлто-бурый цвет, все в соплях, а замёрзшие напрочь кончики носов что плоды боярышника. Но на личиках застыло выражение священной торжественности.
Каждое утро брат появлялся на помосте с жестяным рупором в руке и обращался к собравшимся внизу подручным, к подошедшим зевакам из деревенских, к занесённой снегом деревне. Переняв у «ревущего осла» манеру великих, он в своей речи призывал революционных «маленьких генералов», беднейших крестьян и середняков шире раскрыть глаза, повысить бдительность и отстаивать свои позиции, отстаивать до последней минуты, до весны будущего года, когда станет тепло, распустятся цветы и мы соединимся с основными силами главнокомандующего Чана. Его речь то и дело прерывали приступы яростного кашля, из груди вырывалось какое-то кукареканье, в горле хряскало. Понятное дело, мокрота подступила. Но ведь не может командир отхаркиваться и сплёвывать вниз с помоста, так всякий интерес отобьёшь. И он с тошнотворным усилием проглатывал всё, что накопилось. Речь прерывалась и его собственным кашлем, и лозунгами, которые то и дело выкрикивали снизу. Заводилой в этом был второй из братьев Сунь — Сунь Ху. Обладатель зычного голоса, немного грамотный, он разбирался, когда нужно прокричать, чтобы революционный порыв был предельно высок.
В один из дней снег сыпал так, будто в небесах распороли тысячи подушек, набитых гусиным пухом. Брат забрался на помост, начал речь — и вдруг зашатался. Выпавший из руки рупор упал на помост и откатился в снег. Потом с глухим стуком свалился и сам оратор. Толпа на миг застыла, потом с громкими воплями окружила его, и все стали спрашивать наперебой: «Что с тобой, командир? Что случилось?..» Из дома с плачем выбежала мать. На дворе холодина, а она лишь в старой овчинной куртке на плечах. Толстущая в ней, как ларь для зерна.
Эта была одна из курток на меху, которые перед самой «культурной революцией» привёз из Внутренней Монголии уполномоченный по общественной безопасности Ян Седьмой. Когда он попытался продать эти куртки, измазанные в коровьем дерьме и овечьем молоке, страшно вонючие, его обвинили в спекуляции. Присланные Хун Тайюэ ополченцы доставили Яна под конвоем в полицейский участок для «перевоспитания», а куртки заперли до поры на складе большой производственной бригады, оставив в распоряжении коммуны. Но грянула «культурная революция», Яна Седьмого отпустили, он примкнул к рати смутьянов Цзиньлуна и доблестно проявил себя во время «критики и разоблачения» Хун Тайюэ. Просто из кожи вон лез, угождая брату и строя несбыточные надежды стать его заместителем, но получил отказ. Брат заявил как отрезал: «У нас в отряде единоначалие, никаких заместителей». В душе он Яна презирал. «У этого урода с бегающими глазками одни гадости на уме. Настоящий люмпен, только разрушать и горазд. Использовать его можно, но поручать важную работу нельзя». Брат сам сказал это по секрету у себя в штабе в кругу самых доверенных лиц, своими ушами слышал. Раздосадованный Ян Седьмой уговорился со слесарем Ханем Шестым, взломал склад и вытащил куртки, чтобы распродать на улице. Ветрище, снегопад, сосульки клыками с крыш — самая погода носить меховые вещи. Деревенские столпились, вертя в руках эти куртки, — грязные, с проплешинами, в крысином помёте, с жутким запахом, которым уже пропитался и снег, и воздух. А у Яна Седьмого язык без костей: расхваливает свой дрянной товар, будто драгоценные одеяния самого императора.