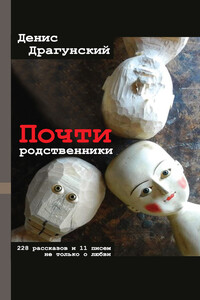Отнимать и подглядывать | страница 148
Чехов насквозь пронизан литературой. Конечно, глупо называть Чехова предтечей постмодернизма (литературного). Хотя бы потому, что постмодернизм доктринален, иногда натужен в следовании своей «доктрине цитирования», а Чехов естествен в своем «барахтании» (как сказал А. Ф. Лосев о Диогене Лаэртском) в литературных и идеологических материях. Но, возможно, именно эта естественность начала снимать запрет с «литературности» литературы. Преодоление литературности после Чехова перестало быть особой (и совершенно зряшной) задачей автора.
А то, что Чехов постоянно советует своим коллегам «просто описывать жизнь», – не так уж важно.
Получается такая – ну прямо кантовская – антиномия.
Тезис: «В литературе нет ничего нового, всякий элемент любого современного текста можно найти как минимум в одном из старых текстов» (то же относится к синтаксису, так сказать – «всякий способ соединения элементов можно найти в старых текстах»).
Антитезис: «В литературе всегда все ново, ни одного элемента современного текста (равно как способа соединения их) нельзя найти ни в одном из старых текстов».
Разъяснение: все совпадения – кажущиеся, это либо сознательная натяжка, либо бессознательная проекция.
Как же там «на самом деле» (с учетом всей критики «самого дела», которая проведена в философии ХХ века)? А вот как. Это проблема разрешения соссюровских дихотомий (синхрония – диахрония, язык – речь). А именно: текст, будучи произведен и «отпущен в мир» (одновременно и в гегелевском, и в издательском смысле слова), немедля перестает быть только и исключительно текстом как таковым – каким он остается, пока лежит в голове его автора, пока автор везет заветную рукопись на извозчике или посылает ее по электронной почте в редакцию. Текст в полноте самодовлеющих, в основном внутри текста соотносящихся элементов – текст «в себе и для себя». Но, как только он отпущен, его, этот маленький кусочек синхронии, уносит поток культурной диахронии.
Оставаясь в некотором отвлеченном смысле «речью» (куском речи), он растворяется в «языке». Для речи язык культурно безразличен, это именно язык, который, по известному замечанию Сталина, носит надклассовый характер. Обслуживает всех, кто на нем говорит. Точно так же для следующих текстов заимствования из предыдущих текстов (независимо, собственно, от качества и масштаба таких заимствований) – тоже культурно безразличны, как безразличен (именно культурно, опять повторяю это неясное слово!) лексический состав или грамматические особенности текста, всегда бытующего в несоизмеримо (с любым «данным» текстом) более широком языково-текстовом контексте. А реально мы общаемся всегда с данным текстом, а не с общим контекстом.