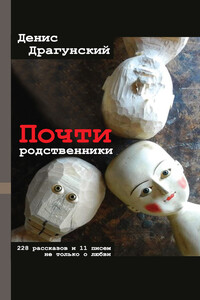Отнимать и подглядывать | страница 145
Иногда кажется, что Альбер Камю в своей философской прозе разрабатывал наследие Чехова. Посторонний – это внук (виноват, внучатый племянник) бездетного дяди Вани. Одна разница – он все-таки выстрелил.
Кстати, в записных книжках этих авторов есть удивительные совпадения по типу и интонации короткого «ненаписанного рассказа». У Камю: человек просил, чтобы ему по радио поймали Би-би-си. Пока вертели ручку приемника, он говорил, что Би-би-си – лучшая радиостанция, что там самые интересные передачи. Вот ему наконец поймали Би-би-си. Он сел в кресло у приемника и заснул. У Чехова жестче, но о том же: человек собрал миллион почтовых марок, лег на них и застрелился. Как смешно. И как ужасно. Конспект абсурда.
«Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один» (Чехов. Записная книжка № 1, с. 121, запись 14). И чуть раньше: «Если боитесь одиночества, то не женитесь» (запись 8).
«Нет, он не любил ее <…> им давно следовало бы расстаться и спать в одиночестве до конца дней. Но разве кто-нибудь может всю жизнь спать один? На это способны лишь немногие, которых призвание или беда оторвали от людей, те, что каждый вечер ложатся в постель вдвоем со смертью» (Камю. «Неверная жена»).
Призвание = беда. Это и есть случай Чехова.
Соллертинский в комментариях к «Жизни Моцарта» Стендаля сообщает удивительную вещь: оказывается, ученики Шёнберга показали, что у Вагнера нет ни одного музыкального достижения (гармонии, мелодического хода и т. п.), которого не было бы у Моцарта. Я не проводил столь подобного анализа, но мне кажется, что в литературе ХХ века нет таких, говоря по старинке, идейно-художественных моментов, которых не было бы у Чехова. Или, не столь решительно, – Чехов определил главные параметры художественного и ментального тезауруса современной литературы.
Но разумеется, разумеется… Мало надежды, что можно будет быстро и убедительно выстроить связь между политической философией Чехова, спецификой его собственного поведения и строением его текстов. Вряд ли мы скоро доберемся до той точки, откуда эта связь нам станет совершенно ясна. Вряд ли можно будет показать – вот, мол, весьма специфическое отношение Чехова к Достоевскому-идеологу переформировалось в столь же специфическое освоение достижений Достоевского-художника (поскольку идеолог и художник – это одно и то же, скажем так: Достоевского – конструктора текстов). Или – вот каким образом пережитая Чеховым невозможность личного выбора породила сюжетные особенности его пьес. Там, где такие построения убедительны, они до крайности неинтересны, банальны, поверхностны. А там, где прощупывается нечто менее тривиальное, – почти нет места для строгой доказательности. Но, в конце концов, что значит доказать? Один выдающийся математик пишет: «Хотя термин “доказательство” является едва ли не самым главным в математике, он не имеет точного определения и во всей его полноте принадлежит математике не более, чем психологии: ведь доказательство – это просто рассуждение, убеждающее нас настолько, что с его помощью мы готовы убеждать других» (В. Успенский. «Теорема Геделя о неполноте», 1982).