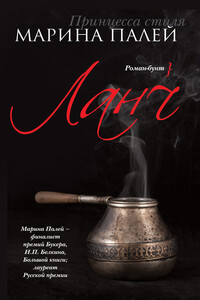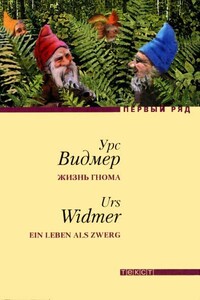Транскрипт | страница 30
Рома ютился тут же, с рабочей прописью. Он писал буквально как курица лапой, зажав ручку как курица лапой насест, но каждый раз, поймав ирин взгляд, перекладывал ручку на палец, только никак не помнил, какой: указательный? средний? вообще безымянный? Ручка падала, Ира купала посудной щеткой коня, Муравлеев сидел, ни о чем не думая.
– Чтение! – сжалилась Ира.
Она, видимо, знала текст. Потому что Муравлеев, сколько ни слушал, не понимал ни слова. Перегнувшись в ромину азбуку, он подсмотрел: Л.Толстой. Ворона поймала рака. Рак ей льстил: знавал твоего отца, он умен, только ты умнее. Ворона молчала. Рак подпускал турусы: знавал и мать, красавица-птица, но ты… На каких-то кузинах ворона сломалась, рот открылся, и рак сбежал. Заподозрив ромины «хры», Ира вдруг потребовала: «Перескажи!»Рома заплакал. Правда, тут же утешился, узнав, что «перескажи» значит «расскажи», а не «прочитай еще раз», и бодро начал: – Ворона поймала краба, приносит его в гнездо: «Мама, приготовь мне этого краба!» А он говорит: отпустите, я вам всех родственников приведу. Ему поверили. А родственники так и не пришли…
Муравлеев слушал завороженный. Даже утихомирил Иру:
– Когда он вырастет, раков уже не будет.
Переводчиков, видимо, тоже. Жаль: у мальчика есть задатки.Рома выполз из-за стола, взял коня…
– Готовься, я буду тебе читать! – крикнула Ира. – Дай ему высохнуть!
В перерывах между снарядами Ира садилась пить чай, и за чаем она излагала теорию. Бедный Фима! Здесь было все, даже притча о семерых злейших бесах. Муравлеев припомнил, как Рома, ошалев от подарочной неспособности Муравлеева себя поставить, с верхних нар ему тыкал ногами в нос. Ромины пятки ничем не пахли. Ровно ничем. Какие там семеро злейших бесов! Закончила Ира пошлейшим образом, что «природа не терпит пустоты», и Муравлеев снова сдержался, не стал делиться своими открытиями. Закончив, Ира вскочила, труба звала, а Муравлеев остался размышлять о правилах духовной гигиены для взрослых вонючих душ, пораженных трихофитией, микроспорией и прочими дерматомицетами, и о стонущем на весь дом «ма-а-а-а-ма, мне ску-у-у-ушно…», – пустоте Торричелли, внутри которой творятся большие дела.Не давая Роме забыться, Ира коварно и неожиданно прерывалась, чтобы спросить, что хотел выразить автор. – Смотри, смотри, как она его, – (с восхищением? ужасом?) шептал Фима. – Это не женщина, это английский бульдог…
Ира снова садилась пить чай (крикнув Роме: «Готовься клеить гербарий!»), язык у нее, слава богу, уже не ворочался, она потусторонне смотрела перед собой, слабо, рассеянно улыбалась, словно после сдачи донорской крови. Не пустоты, боялась того, что пустоту, упреждая ее, уже чем-нибудь напихают – Рома должен был скоро отправиться в школу, оставался минимум времени быстро его обучить читать и писать с наклоном, так, как надо, пока не научат они. У Иры был сильный соперник, чуть ли не каждое «новое слово» – Ира несла, как пирог на блюде – приходилось на место, где уже что-то стояло, ведь он ходил в детский сад, на площадку, смотрел мультфильмы, соперник вел большую работу по заполнению пустоты. В Роме все готовилось затянуться, как теменной родничок, и при словах «Осторожно, двери закрываются!» Ира страдала спазмами клаустрофобии, снова и снова бросаясь на дверь в порыве, обратном александрома-тросовскому. Эти действия стали привычной формой безумия: «гербарий», заметил Муравлеев, вырезался с каких-то открыток – и впрямь, где здесь взять листья липы, осины, рябины? (Из природы Рома лучше всего знал ежа, троллейбус, рябину и дворника, которых, к сожалению, нельзя было предъявить ему даже в зоопарке.)