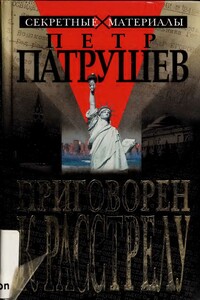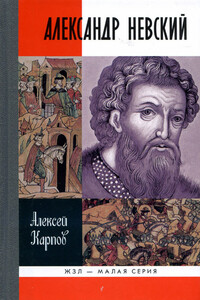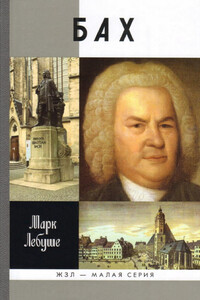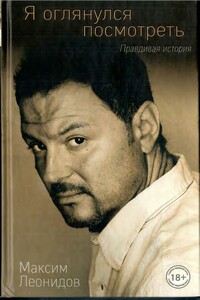Пути неисповедимы | страница 23
В то же время я не припоминаю проявлений какой-либо национальной вражды в любой ее форме. Рота, в которой я тогда служил, была именно интернациональной, и в ней не чувствовалось национального антагонизма, знаков противостояния. Надо сказать, что в те времена наша армия была несравненно более здоровой, чем теперешняя. Я имею в виду так называемые неуставные отношения, дедовщину. Тогда ничего подобного абсолютно не было. А во время войны в армию стали брать всех подряд, в том числе и уголовников. Это осталось, по-видимому, и после войны. Они-то и стали постепенно навязывать свои обычаи, правила поведения.
Интересно, что в написанных моим отцом «Записках кирасира»[4] описаны отношения между старшими и младшими юнкерами Николаевского училища, внешне напоминающие нашу дедовщину. Но там это делалось по предварительному добровольному сговору — старшие спрашивали новичка: желает ли он жить «по славной училищной традиции или по законному уставу?» И этот выбор определял его дальнейшую судьбу: вставший на путь «законного устава» не подвергался издевательствам (кстати, они носили беззлобный характер), но на всю дальнейшую жизнь и после училища такой человек считался «красным» и никогда уже не был принят в свою офицерскую среду. Отец добавляет, что «красный юнкер был очень редким явлением». Это совсем иное, отличное от дедовщины, в которой только изуверство.
В начале мая нас срочно среди дня сняли с работ и вернули в Кострому. В казармах мы застали совершенно иную жизнь. Военный городок бурлил. Масса нового народа. С Дальнего Востока прибывали младшие командиры, а с «гражданки» приходили новобранцы весеннего набора. Их одевали, вооружали и тотчас же, не задерживая и дня, отправляли с дальневосточниками куда-то на запад. С ними поехали и почти все бывшие курсанты полковой школы. Меня же перевели в 527 стрелковый полк 118 стрелковой дивизии, которая осталась в Костроме, разместившись в том же городке. По-видимому, магическое действие моей биографии продолжалось. Дивизия скоро отбыла в летние лагеря, а я остался в военном городке в караульной роте, обслуживавшей еще и конный двор. В городке все затихло, затихло так, что я стал проситься в отпуск. Мне обещали, а пока потянулись скучные дни заурядной службы в опустевшем военном городке.
Меня назначили помощником командира взвода, что давало некоторую свободу, и разнообразие в жизнь иногда вносили поездки верхом. Раньше я никогда этого не делал и теперь учился. Особенное удовольствие доставляла езда на красивой, высокой и стройной кобыле Стрелке, принадлежавшей командиру батальона. Вначале она меня, по-видимому, презирала: как только я на нее садился, сразу же направлялась в ворота конюшни, и я долго ее от этого отучал. Конюшня была чистой, просторной, с амбаром для овса при входе. Как раз в это время он был доверху забит буханками зачерствевшего хлеба, которым из-за головотяпства какого-то интенданта кормили лошадей, добавляя в рацион овса. Иную буханку возьмешь в руки, а она легкая, прелегкая. Повертишь в руках и где-нибудь у края увидишь маленькую дырочку — мыши выели мякиш. Не предполагал я тогда, что скоро, очень скоро, буду частенько вспоминать этот амбар, полный кирпичиков хлеба.