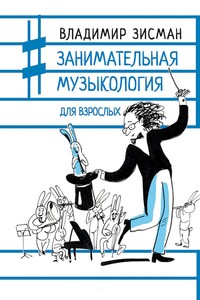Путеводитель по оркестру и его задворкам | страница 100
Н. А. Римский-Корсаков. Летопись моей жизни Гл. VII: 1866–1867 годы
Решить эту проблему и создать хроматическую валторну музыкальные мастера пытались с начала XIX века. Создавались нечеловечески сложные топологические
Путеводитель по оркестру и его задворкам монстры вроде омнихорна, в котором было восемь независимых контуров и мундштук переставлялся в зависимости от необходимости в одно из восьми отверстий.
История про Иоганна Штиха
«.. Примерно в те же времена известный чешский валторнист Штих играл на одной из бета-версий хроматической валторны. Когда он стал стареньким, то пересел на четвертую валторну. И однажды, заскучав на этом не самом интересном для исполнителя месте, он обратился к Бетховену (они были друзьями). „Слушай, Людвиг, — проорал он в ухо уже почти глухому тогда классику, — напиши для меня что-нибудь”. Бетховен написал. И с тех пор уже почти двести лет ни в чем не повинные исполнители партии четвертой валторны в медленной части Девятой симфонии отдуваются за этот исторический казус».
Все в этой истории, рассказанной мне валторнистами, — истинная правда. И то, что Иоганн Венцель Штих был знаком с Бетховеном, и тот даже написал сонату для валторны и фортепиано F-dur для их совместного выступления, и то, что в Девятой симфонии у четвертой валторны ни с того ни с сего появляется сольный фрагмент. Все правда. Беда только в том, что Девятая симфония была написана в 1824 году, а выдающийся валторнист Иоганн Венцель Штих, он же Ян Вацлав Стич, он же Джованни Пунто умер 16 февраля 1803 года.
Доисторические модели хроматических валторн Большой театр закупил еще во времена Глинки, и тот в одном из писем другу советовал: типа, хочешь поржать — зайди в Большой.
До создания современного хроматического механизма в начале 90-х годов XIX века типоразмеров валторн было столько же, сколько тональностей. С точки зрения нотной записи, кромешное безобразие. Потому что на бумаге записывалась нота, которую должен исполнить валторнист. А на каждом типоразмере инструментов одинаково написанная, а стало быть, исполненная нота звучала по-своему. Проще говоря, написанная в партии нота до на каждой из валторн давала свой эксклюзивный вариант звучания. И когда к концу XIX века музыка заметно усложнилась, то в оркестре сидели валторнисты с набором разных валторн, только и успевая их менять. Или со скоростью иллюзионистов переставляя кроны (трубки, меняющие длину воздушного столба в инструменте). Но это еще полбеды.