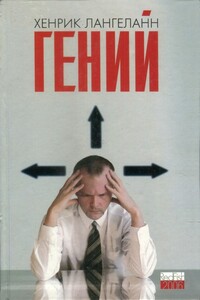Мнимые величины | страница 37
По ее словам, она была замужем, но с мужем развелась и жила одна, не имея никого родных. О ее частной жизни никто не знал, потому что она держала себя очень замкнуто, ни к кому в гости не ходила и к себе не приглашала.
Как она познакомилась с Любкиным и как она сошлась с ним, тоже не знал никто. Сойдясь с ним, она объявила, что работу в школе бросит. Любкин выслушал ее решение совершенно безразлично и спорить не стал.
— Как хочешь.
Но тут же поймал какую-то мысль и поднял брови.
— Пока я тут, тебе, конечно, школа совсем не нужна, но… Меня ведь перевести отсюда могут. Что тогда будешь делать? На что станешь жить? Без работы нельзя.
— Ты такой заботливый? — насмешливо спросила она.
— Заботливый — не заботливый… Я ведь здесь не надолго.
— Да, ты говорил. Тебя в Румынию назначат?
— Когда я это говорил? Я такого не говорил.
— Давно уж. Не помню. Еще до того, как…
— Разве? — немного нахмурился Любкин. — Пьян я был, что ли?
— Может быть, и пьян, не помню! — притворно равнодушно отвернулась Елена Дмитриевна. — А если, — переменила она тон, — если тебя в самом деле в Румынию назначат, так меня с собой не возьмешь?
Любкин немного презрительно усмехнулся.
— Мне с тяжелым багажом невозможно.
— А я — тяжелая?
— Для моего дела всякая лишняя тяжесть тяжела.
Она посмотрела как-то особенно: или что-то проверила, или чему-то усмехнулась.
Любкин устроил ей небольшую отдельную квартиру (две комнаты) и, пользуясь некоторыми льготными возможностями, помог ей одеться понаряднее, но совсем уж не так «по-парижски», как о том говорили в управлении. Она любила духи и сама составляла какую-то смесь из незатейливых советских флаконов. Когда же Любкин однажды привез ей французских духов, она сказала:
— Я ими душиться не буду.
— Чего так? — безвкусно заинтересовался Любкин. — Нехороши, что ли?
— Нет, хороши. Очень даже хороши. Поэтому-то я ими и не буду душиться, что они хороши.
— Как так?
— Не понимаешь? Если парни в избе-читальне поют частушки, так им нельзя аккомпанировать на скрипке Страдивариуса.
— На чем же? — совсем не понял Любкин.
— На гармошке!
Он не знал, что в школе ее называли «донной Стервозой», но когда он смотрел на нее или думал о ней, он неизменно говорил себе то же самое и тем же словом: «Ба-альшая стерва!» Но если бы его спросили, почему он называет ее «стервой», он объяснить не смог бы: очевидно, это только чувствовалось. И, ничего не стесняясь, ни к чему не относясь бережно, он прямо говорил ей, что считает ее «стервой». Когда он в первый раз сказал ей об этом, она не обиделась и даже не изумилась, а на минутку задумалась, словно проверила в себе что-то.