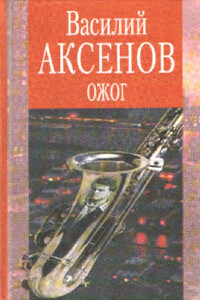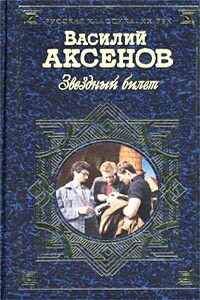Одно сплошное Карузо | страница 115
В той стране, известной своей помидорной любовью к Советскому Союзу, я провел целый месяц, наслаждаясь международным обществом литераторов, красавиц, стукачей гэбэ и лазутчиков Запада. На прощание кто-то мне сунул в карман полную бутылку «Плиски». Эту бутылку я допивал весь полет, пока не допил до дна. Одновременно читал пьесу Тенниси Уильямса «Орфей спускается в ад». В соседних креслах гоготали болгарские генералы, летящие на заседание Варшавского пакта. Я потихоньку хлюпал носом, вспоминая Болгарию, воображая Америку и предвкушая Россию. Самолет между тем опаздывал на семь с половиной часов.
Сели в какой-то кромешной тьме. Генералы толпились на трапе, не зная куда идти, как вдруг из всего этого кромешного выпрыгнули Белла Ахмадулина и Володя Войнович. За ними еще и другие друзья стали выпрыгивать. Оказалось, ждали меня все эти семь с половиной часов, зачем-то я им срочно понадобился. Пробившись сквозь генералов, я рухнул в руки шестидесятников.
Так тогда было: собравшись, мы почему-то не могли разойтись. Со стороны может показаться, что Войнович как бы принадлежал к другому кругу, к обществу серьезных новомирцев, а не к богемцам «Юности», а между тем мы все были тогда одна бражка, и все любили друг друга. Любой появляющийся тогда рассказ Володи вызывал сенсацию в нашей компании. Помню, мы просто катались от смеха, слушая, как его мужики спорят в ночи, сколько на самом деле колонн у Большого театра. Никогда не забуду сцены из рассказа «Хочу быть честным», когда герой в столовке, где запрещено пить, накрывает стоящие на полу бутылки полами своих широких клешей.
Неприятности у молодой прозы в Советском Союзе начались с возобновлением жанра романа. Дело в том, что огромные романы социалистического реализма на самом деле романами не были. Самой своей сутью они опровергали романную полифонию, являясь на деле монологами партийности и народности. Да ведь и весь социализм по сути дела – это не что иное, как монолог. Только наше послесталинское поколение писателей, часто спонтанно, само того не ведая, стало постепенно восстанавливать закрытый режимом многоголосый роман. Появляясь в литературе шестидесятых, мы еще не знали, на что мы идем. Режим давил пузом тогдашних поэтов, прозаики пока что бегали по периферии ковра. Вдруг режим как-то отпустил поэтов: все-таки какие бы ни были противоречивые, но каждый поет свое, поэт – все-таки всегда монологист. Режим вдруг осознал, что на самом деле он боится не поэзии, а возобновления романа, потому что в романе поют не только за себя, но и за других, там возникает столь ненавистная внутри зоны многоголосая ярмарка.