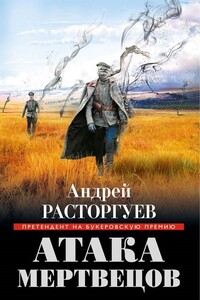Фарватер | страница 69
«Дуй, Павлушка, – говаривала мамуля, – всегда дуй, даже на воду. Обожженными губами не сможешь невесту крепко поцеловать. Не дождется она поцелуя, да и упорхнет к другому Павлушке, со второго этажа. А то и к Васечке из флигеля».
И будущая невеста представлялась Павлушке эльфом. Не английским – юрким, крадущим младенцев из колыбелек. Не германским, уже даже и не эльфом, а гномом.
Скандинавским альвом из Альвхейма, эфемеридой, сверкающей ярче солнца, – вот кем она Павлушке представлялась!
Но экая незадача! Ярче солнца, значит, солнца горячее? Стало быть, от прикосновения к ее щечке губы спекутся… Надо загодя на щечку подуть, остужая, подуть изо всех сил, всем запасом старательного вдоха… но тогда отнесет эльфину прочь, обидится она некстати, девчонки всегда обижаются некстати – и тогда уж точно упорхнет! Упорхнет за безрассудным, крепким «чмоком» к другому Павлушке или, того горестнее, к хулиганистому Васечке из флигеля…
«Как же быть, мамуля?»
«Все равно дуй, Павлушка!»
Запив катыком, татарским кислым молоком, последние два сухаря из пайка, полученного при выписке из госпиталя, Павел прикорнул на топчане, уложив ноющую ногу на плотный валик из свернутой шинели – и уснул, чувствуя во рту сочетание кофейной горечи с кислостью катыка.
И сон ему снился кисло-горький. Куда ему было до тех сладких снов в Одессе, когда минут за пять до прощального мамулиного благословения подробненько разжевывалась карамелька или глотался почти не разжеванный кусок кекса, испеченного Ганной к ужину.
…Вначале приснилась Ганна, и видел он ясно ее всегда потное от жара плиты лицо, сухими на котором оставались лишь две крупные родинки – коричневые, как ломтики картошки, пропеченные на раскаленном противне. Одна родинка располагалась в ложбинке над верхней губой, другая – гораздо выше, под правым глазом, на окоеме выпуклой скулы. Иногда после уроков рисования Павлушка развлекался: наносил на лист ватмана кружочки-родинки, соединял их черным отрезком и пририсовывал к нему две неравные части. Справа – бессмысленное, но очень румяное матрешкино круглоличье; слева – то часть скорбного лица Пьеро («Ганна в печали»), то часть безнравственной физии Панталоне с похотливо топорщащимся брандмейстерским усом («Ганна мечтает о женихе»).
Сами эти странные рисунки были, в общем, вполне невинного свойства, но демонстрация их кухарке: «Ганна, это ты!» – почему-то превращалась в некое неприличие. «Ой, лишенько! Ой, горе!» – смущалась рано увядшая хохлушка, закрывала лицо фартуком и пятилась… однако – как представлялось подростковому воображению – пятилась подобно одалиске, сокрывшей лик, но к заветному сладострастию все равно зовущей…