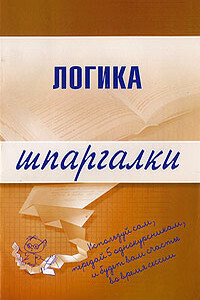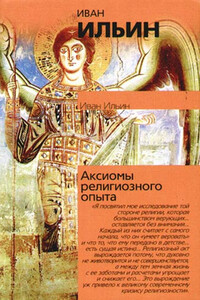Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец | страница 75
Антропология Ф. М. Достоевского
(религиозно-философский контекст)
А. Гачева д-р филол. наук
Памяти Ю.Ф. Карякина
«Русская философия… больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории»[174] – так обозначил прот. Василий (Зеньковский) две главные темы, волновавшие отечественную философскую мысль с самых первых самостоятельных ее шагов. Русская философия зарождалась в лоне литературы: в чеканных, вдохновенных глаголах Г.Р. Державина, лирико-философских размышлениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева, в прозе Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. От нее унаследовала интерес к человеку, к парадоксам и антиномиям его природы («я царь – я раб – я червь – я бог!»[175]), напряженное алкание смысла («Смысла я в тебе ищу»[176]). Рука об руку с литературой «в наш век отчаянных сомнений, / в наш век, неверием больной»[177] стремилась возродить в душе человеческой иссякшие источники веры, утвердить ее «на камени исповедания Твоего», призвать к подвигу «деятельной любви».
Достоевский для русских религиозных мыслителей конца XIX – начала XX в. был не просто духовным собратом. В его творчестве, пронизанном новозаветным «Вера без дел мертва» (Иак 2. 20), в его «откровении о человеке»[178], истекающем из заповеди Спасителя: «Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный совершен» (Мф 5. 48), они обретали твердый фундамент для построения антропологии, которая мыслилась не апологией гордынного, самоопорного «я», но антроподицеей, словом о человеке как сыне и наследнике Божием, призванном к соработничеству на ниве Господней, дабы принести своему Творцу плод сыновней любви. Здесь была налицо уже не доверчивая детская вера, при которой разум молчит, а глаголет лишь сердце, но и не разлад умственного и сердечного, когда острый, скептический «Эвклидов» ум бросает вызов идее Бога, здесь возникала симфония ума и сердца, равно открытых Слову, Которым «все начало быть» (Ин 1.3).
Слова Достоевского об «осанне», проходящей «через большое горнило сомнений»[179] (11; 179), помнят многие. Вопросы, прозвучавшие в подготовительных материалах к роману «Бесы»: «Возможно ли серьезно и вправду веровать?», «Возможно ли веровать цивилизованному человеку?» (11; 182), – вряд ли известны кому-то, кроме специалистов. Между тем эти вопросы для Достоевского – главные вопросы его эпохи, в них своего рода критический итог Нового времени, утвердившего секулярность нормой мысли и жизни и в конечном счете упершегося в ее потолок.