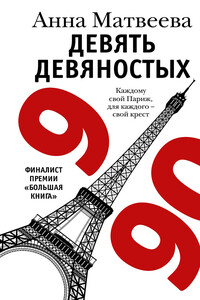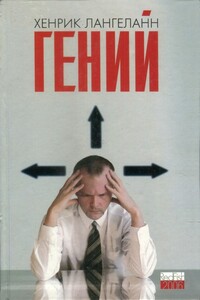Небеса | страница 193
Зубов надолго пропал после тех откровений: началась очередная думская сессия, а может, он искал помещение для своих прихожан или писал новое Евангелие…
Иногда мне казалось, что депутат просто пошутил в том разговоре, опробовал на мне очередную байку — они вылетали из него с невероятной частотой и легкостью… Мы виделись мельком несколько раз, но депутат ни словом больше не оговаривался о своей религии, и глаза у него снова были голубыми, как небо над Улан-Батором.
Я каждый день ждала звонка от Лапочкиных, и в день, когда Петрушке исполнился месяц, не выдержала. Сашенька долго не подходила к телефону, потом выкрикнула в трубку ожесточенное «алло».
— Хочешь — приходи! — Сестрица обошлась без лишних сантиментов, и я пошла к Вере отпрашиваться. Она сидела, окаменев, над факсом, только что присланным из местного информационного агентства. Скосив глаза, я прочитала:
Заседание Священного Синода, 12–13 января,
сообщение для СМИ.
Дочитать до конца не довелось: Вера швырнула листочек в урну, но потом, спохватившись, достала обратно — в черном сигаретном пепле и с прилипшей к сгибу жвачкой.
— Чего тебе, Глаша? — простонала Вера.
Странно, но она быстро согласилась отпустить меня с работы — хотя до шести вечера оставался еще довольно большой зазор. В детском магазине напротив Дома печати я купила резиновую белку интенсивно оранжевого цвета и всю трамвайную дорогу нажимала ей на живот: белка громко пищала.
Дверь открыл Лапочкин — смурной и опухший. Я привыкла к тому, что Алеша пристально следит за своей внешностью, и даже не сразу признала его.
— Заходи, — мотнул он головой. — Сашенька уехала с Петрушкой в поликлинику, но они скоро вернутся. Только не обижайся, я дальше спать буду: сегодня всю ночь прыгали с ребенком.
Он устало махнул рукой и закрыл за собой дверь в спальню. Я присела на краешек разложенного дивана, где, видимо, обитала теперь Сашенька. Нарядная прежде комната сильно изменилась — повсюду валялись пеленки, марлевые тряпки, погремушки, на столе выставлена батарея узких стеклянных бутылочек, и главное, здесь царил теперь новый запах: молочно-теплый, беззащитный…
…Я никогда не думала о себе как о матери — не могла поверить, что у меня вдруг заведется некий ребенок, которого надо будет пестовать и холить. Теперь, еще не видя своего племянника, я вдруг почувствовала сильную, сосущую тоску в самой чувствительной зоне своей души. Один только запах, теплый и родной, пробуждал сильное, болезненное от новизны чувство.