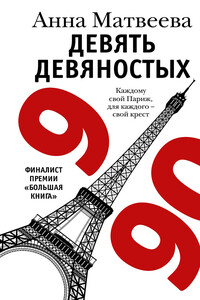Небеса | страница 168
Меня быстро усадили за стол: мама порхала вокруг лучше любого мотылька, и на столе красовался парадный сервиз с золотыми цветочками. Деликатесы стояли на столе плотными рядами, как солдаты, они явно были родом из Сашенькиной сумки, что развалилась уютно на полу, демонстрируя клетчато-клеенчатое нутро. Паштет из гусиной печенки («Фуагра, фуагра», — каркала Сашенька) — тверденький брусок, испещренный аппетитными росинками. Чернявая мелкая икра, и сыр ненашенской выделки — с влажной корочкой, оранжевой и ноздрявой, как апельсиновая кожа. На стареньком столе это пищевое изобилие смотрелось инородно, как если бы в родительской квартире вдруг — сам по себе — открылся французский ресторан.
Сашенька размазывала паштет по хлебу и ела за двоих, как, впрочем, и было на самом деле. Мама смотрела на нее с умилением и потом отводила взгляд, чтобы не расплакаться.
Совсем не хотелось вписываться в этот идиллический семейный орнамент, и я спасалась другим орнаментом — разглядывала старый ковер, по советскому обычаю распятый на стене. Раньше ковер висел над моей кроватью, и во время ненавистного дневного сна я так внимательно вглядывалась в зигзаги, полосовавшие желтое, с коричневой проседью, поле, что находила в них фигурки животных и страшные мордочки: одну такую мордку я особенно любила — и всякий раз отыскивала ее в хитросплетении орнамента. Красный треугольник с двумя темными точками вместо глаз — плохо прокрашенная нить или халтура исполнителя — скорее, впрочем, исполнительницы.
Вот и теперь я пыталась найти ту мордку — то приближая лицо к ковру, то отъезжая взглядом далеко в сторону. Сашенька начала злиться и довольно грубо подвинула ко мне тарелку с бутербродами.
— Давай поговорим, — сказала она. Мама деликатно вышла из комнаты.
— О чем?
— Глашка, я не хочу с тобой ссориться, понимаешь? Даже Алеша меня простил, ну неужели ты не сможешь?
Взгляд узких, как мелкие рыбки, зеленых глаз казался раненым, беззащитным. Мы не виделись недолго, но за это время сестрицына талия укрылась под кругленьким животиком — наверное, он рос с каждым днем, как луна. Сашенька была теперь так явственно беременна и так зримо уязвима в этом своем состоянии, что я не могла сердиться на нее. Тем более легкомысленное коварство сестры ей же и вышло боком (точнее, животиком): она носила дитя от не любимого и даже не уважаемого ею человека. Мне же не было теперь почти никакого дела до этого персонажа, он затерялся в свете сияния, расточаемого депутатом Зубовым.