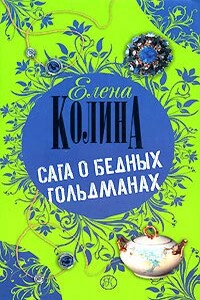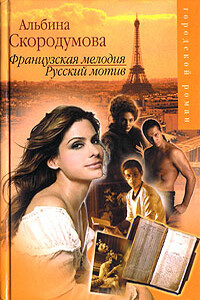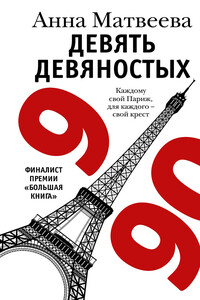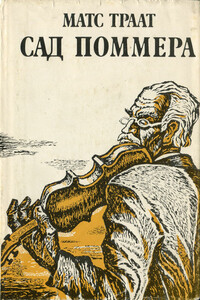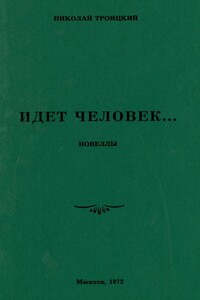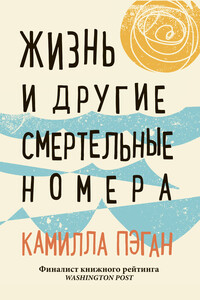Небеса | страница 112
В обычные дни тетя Люба выглядела так же, как выглядело в те дни почти все сорокапятилетнее женское население России: акриловая кофточка, пережженные волосы, серьги с малахитами. К нам она приходила по-соседски запросто, в халате, и бисквитные пирожные исходили масляными слезами на кухонном столе, пока тетя Люба всучивала маме кассеты с релаксирующей музыкой и брошюры с тайными знаниями. Мама вежливо улыбалась, цепляла мельхиоровой лопаточкой пирожное, и оно бочком падало в тарелку тети Любы, смазывая кремовые лепестки… Ей приходилось уносить домой свои кассеты и толстую «Бхагавадгиту» с обложкой, похожей на разноцветный ковер: тетя Люба проигрывала маме тайм за таймом и в конце концов сдалась, скрывшись в неведомой нам нирване.
Эмма однажды сказала, что не видит свою жизнь сводом событий, предопределенных высшим разумом, где одно действие неумолимо проистекает из другого. Жизнь по Эмме — это произвольный орнамент цветных стекол в калейдоскопе. Или генератор случайных чисел. Поэтому, объясняла Эмма, она никогда не упрекала Бога или судьбу в грубом обращении с ее жизнью: нельзя же всерьез сердиться на конструктора калейдоскопа или на его владельца, вздумавшего тряхнуть пластмассовую трубочку!
В случае с Эммой ее, кстати, трясли с немалой силой.
Я, конечно, догадывалась о том, что Эмма не всегда была сморщенной, как груша из компота, старушкой, но фантазия все равно отказывала мне в попытках вообразить юные годы моей незаконной свекрови. Всего только раз, под коньячок, Эмма размотала клубок воспоминаний. Я послушно сидела рядом, воздев руки — чтобы нитки не спутались.
Девочка Эмма родилась в семье оперного тенора Кабановича и балерины Паниной; малюткой ее выносили на сцену в «Мадам Баттерфляй» — Эмма громко кричала: «Мама!» — и тянула ручонки к исполнительнице главной партии. «С тех пор я полюбила Пуччини, хотя ты знаешь, Глаша, что до Верди ему как до Луны». К школьному возрасту Эмма отметилась в десятке подобных «ролей», этим же временем у нее открылся голос. Тенор немедленно устроил дочь к лучшей преподавательнице по вокалу, какая была в Николаевске. «Анна Сергеевна, — вздыхала Эмма, и глаза ее подергивались мечтательной ряской, — таких людей просто нет: всех повывели!» Реликтовая Анна Сергеевна преподавала маленькой Эмме не только азы пения и фортепьяно. Между распевками и дыханием она успевала воспитывать в ученице настоящую женщину — во всей старомодности своих представлений. Анна Сергеевна научила маленькую Эмму пользоваться щипцами для омаров и чашкой для полоскания рук — в ней плавали лимонные кружочки, и Эмма поражалась такой расточительности. Учительница жила небогато, но кружочки все равно плавали, и чайные чашки словно срастались с блюдцами, и надо было резать яблоки фруктовыми ножичками, а не откусывать зубами, как делали дома и тенор и балерина. Анна Сергеевна требовала от воспитанницы прямой спины, трудолюбия, но более всего — выдержки. «Мы ей платим не за это!» — возмущалась балерина, но Эмма сразу влюбилась в учительницу и часами сидела за инструментом, только бы заслужить похвалу — горчившую от сдержанности. У Анны Сергеевны были душистые руки в кольцах, играя, учительница наклонялась к нотам всем корпусом и потом откидывалась назад, замирая, пока руки летали над клавиатурой, как самостоятельные существа: скажем, птицы.