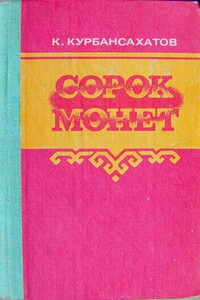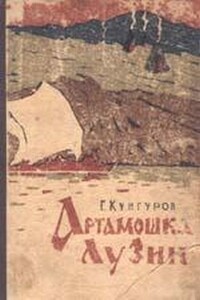Голубой велосипед | страница 86
А Франсуа Тавернье все не подавал признаков жизни! Невозможно, чтобы он отправился на фронт, не повидавшись с ней снова и, тем более, не сдержав обещания найти для них средство покинуть Париж. Уже наступило 6 июня.
— Вот эти нахмуренные брови явно не предвещают ничего хорошего, — сказал присевший рядом мужчина.
Леа уже хотела его осадить, как узнала Рафаэля Маля.
— Кого я вижу! Здравствуйте, так вы не уехали?
— Куда?
— Ну, хотя бы ко всем чертям!
— Знаете, дорогая, туда мы все сейчас направляемся. И не могу сказать, что это мне не нравится. Я всегда любил светловолосых чертей, особенно в мундирах. А вы нет? Хоть какая-то перемена после всех этих пузатых и розовеньких французов, после чужаков с кривыми носами.
— Замолчите, вы говорите гнусности.
— Что же здесь гнусного? Разве не из-за них, не из-за Блюма с его шайкой мы проиграли войну? Я их всех знаю, так что не спорьте. Я сам наполовину еврей.
— У меня есть приятельница-еврейка. Ее муж был арестован единственно потому, что он еврей.
— Ну и что? Вам это не кажется достаточным основанием?
— Чудовищно! — Леа вскочила.
— Ну, хорошо, хорошо. Успокойтесь. Я только пошутил, — сказал он, в свою очередь вставая и беря ее под руку.
Jlca нетерпеливо высвободилась.
— Извините, мне пора возвращаться.
— Подождите, у меня тоже есть приятельница, она поручила мне продать ее меха — великолепного серебристого песца. Я уступлю его вам за хорошую цену. Вы совершите превосходную сделку.
— Не знала, что вы занимаетесь мехами.
— В данном случае речь идет об услуге приятельнице, которой нужны деньги, чтобы уехать из Парижа. Что вы хотите! Она еврейка, и нацисты внушают ей страх. Мне скорее внушает страх скука. Если песцы вас не интересуют, у меня еще есть ковры, восхитительные старые коврики редкой красоты.
— Так вы еще и торговец коврами! А я-то думала, что вы писатель.
Лицо Рафаэля Маля с широким лысеющим лбом мгновенно утратило свое добродушно-насмешливое выражение. Усталая и горькая улыбка придала его бесхарактерной физиономии мрачноватое обаяние, которое подчеркивал пронзительный и умный взгляд.
— Да, я писатель. Писатель, прежде всего. Вы всего лишь женщина. Так что же можете вы понять в жизни писателя, в его повседневных метаниях между желанием жить и желанием писать? Они несовместимы. Я похож на Оскара Уайльда, мне хочется, чтобы талант пронизывал и мое творчество, и мое существование. А это невозможно. Я бешусь, но приходится выбирать: жить или писать. В себе, я знаю, я ношу великую книгу, но стремление участвовать в событиях нашего мира, в его страстях так меня влечет, что страдает работа. Как писали братья Гонкуры в своем «Дневнике», нужны «упорядоченные, тихие, спокойные дни, обывательское состояние всего бытия, сосредоточенность «ночного колпака», чтобы произвести на свет нечто великое, мятущееся, драматичное. Люди, которые слишком растрачивают себя в страстях или в суматохе нервного существования, ничего не сотворят и опустошат жизнь жизнью». Опустошение моей жизни жизнью — вот что со мной происходит. Вас, женщин, оберегает нехватка воображения, рождение ребенка — ваш единственный акт творения. Конечно, и среди вас попадаются величественные уроды, вроде мадам де Ноайль или Колетт, — ах, какой замечательный мастер слова эта женщина! — но редко. Истинный ум — начало по своей сути мужское.