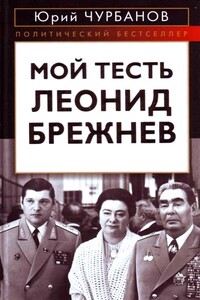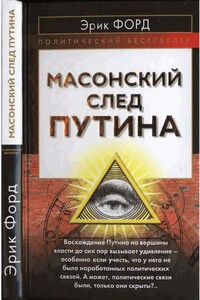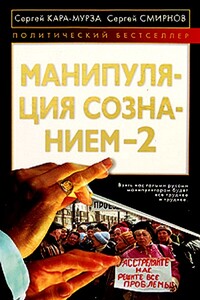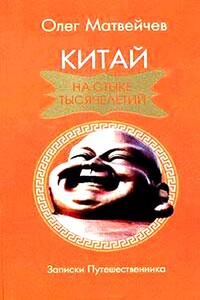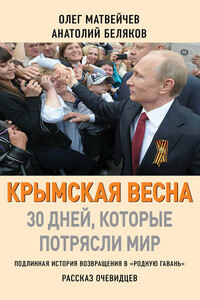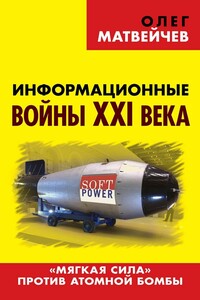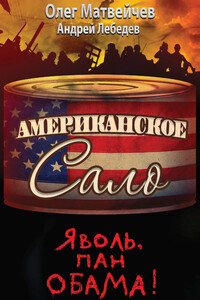Что делать, Россия? | страница 55
В самом деле как можно не увидеть очевидное: материализм с его ставкой на потребности, на эгоизм, с его отрицанием любого духовного порыва не может быть основанием для духа воинственности и победы. Как может материалист идти на смерть? А на трудовой подвиг?
Нормативы на наших заводах были общие с мировыми: не завышенные, не заниженные, рассчитанные по рациональной системе организации труда, по системе Тейлора (их завезли в 1930-е годы американские инженеры). Но люди умудрялись выдавать по 10, 15, 150 норм в сутки!
В старину про это говорили «Бог помогает», да и свидетели сравнивали энтузиазм стахановского труда с исступлением молитвы, когда человек оказывается в другом измерении, где время течет медленнее и вмещает больше.
В подобное состояние входит и идеализируемый православием воин-монах, каковыми являются многие русские святые. Этот так же необъяснимо с точки зрения «сознания», как движения каратиста, находящегося в состоянии медитации во время боя – таким образом из-за полной включенности в происходящее он может более чем автоматически реагировать на мельчайшие изменения ситуации. Некоторые ошибочно считают, что автоматизм возникает от долгих тренировок, но на самом деле ситуация каждый раз непредсказуема и нова, и автоматизм всегда бы «не попадал», мешал. Здесь мы имеем дело с совершенно другим феноменом.
Разговоры о рабском труде при социализме противоречивы. Публицисты убили много времени и бумаги, доказывая, что «свободный» капиталистический труд эффективнее «рабского» социалистического. А потом столько же времени и бумаги тратится на то, чтобы доказать, что успехи сталинского СССР основаны на рабском труде. Требовать, чтобы две мысли были согласны там, где нет ни одной, было бы с нашей стороны по отношению к этим господам чрезмерным.
Наши деды рассказывают о «духе мая 1945-ого» как совершенно неповторимом феномене: энтузиазм, взаимопомощь, непривязанность к вещам (какая может быть привязанность к тому, в бренности чего за время войны пришлось убедиться, все десять раз приобретя и потеряв?). Казалось, каждый стремится ежечасно совершать «подвиг», то есть превосхождение себя, собственной лени, усталости, потребностей. Для этого используется любой повод, нужда или страдание ближнего, выдвигаемые руководством трудные задачи и проч. Главное, стяжать и удержать дух победы. Внезапно открылось, что дух победы, это дух радости, а не напряжения.