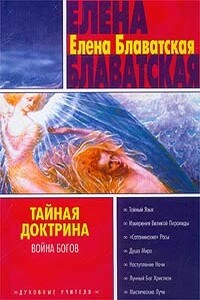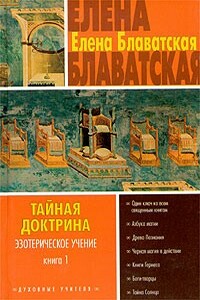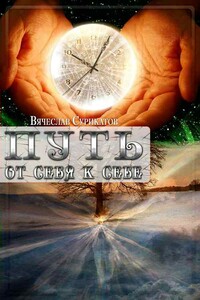Заколдованная жизнь | страница 45
В продолжение нескольких дней благодаря только одной силе воли я успел не поддаться быстро овладевающему мною недугу. Если я не свалился тотчас же под бременем поразившего меня несчастия, то это только благодаря тому, что мне следовало сперва исполнить священный мой долг в отношении живых и мертвых. Но как только я взял из больницы для нищих сестру и отдал ее на попечение одного из лучших медиков Нюренберга, вырвал племянницу из ее вертепа и поселил с умирающей матерью ухаживать за нею; а сознавшуюся в преступлении еврейку засадил в тюрьму, – то в тот же день поддерживающая меня до того сила воли и твердость мгновенно оставили меня… Не прошло и недели по моем возвращении, как я уж лежал, сам не лучше помешанного, в бреду белой горячки, в смирительной рубашке, день и ночь изрыгая проклятия на дайдж-дзинов и судьбу. В продолжение многих недель я боролся со смертью; страшный недуг не поддавался усилиям лучших докторов. Наконец мое сильное сложение победило болезнь, и я был спасен.
Я узнал об этом с облившимся кровью сердцем. Приговоренный нести ярмо жизни впредь один, потеряв всякую надежду на помощь или даже облегчение моей участи на земле, я все-таки продолжал упорно отрицать возможность другой, лучшей жизни за гробом, подобное неожиданное возвращение к жизни только прибавило одну лишнюю каплю горечи к моему безотрадному положению. Не нашел я облегчения и в том, что не успел встать с одра болезни, как в первые же дни те же неприветливые, нежеланные видения, действительность и значение которых я не мог более отрицать, вернулись ко мне с удвоенной силой. Увы! Мне не являлось более даже возможным взирать на них теперь с прежним слепым упорством, как
Так, как и всегда, они являлись верной фотографией горестей и страдания моих ближних, часто лучших моих друзей… Таким образом я нашел себя обреченным на пытку и беспомощное состояние прикованного к скале Прометея, осужденным, как только я оставался один, видеть страдания двух дорогих для меня существ. В безмятежные для других продолжительные зимние ночи, словно увлекаемый железной, безжалостной рукою, я чувствовал себя, как только закрывал глаза, мгновенно переносимым к смертному одру несчастной сестры. Я был вынужден наблюдать в продолжение иногда целых часов за медленным процессом постепенного разрушения ее слабого, истощенного организма, видеть и чувствовать страдания, которые ее покинутый светлым разумом мозг не в состоянии был уже ни отсвечивать, ни передавать ее телесным чувствам. Но что было еще тяжелей и ужаснее, так это то, что я должен был смотреть на невинное детское личико моей племянницы, столь трогательно простой и безгрешной в ее невольном осквернении; видеть, как полное сознание и воспоминание о своем бесчестии, о своей юной навеки погибшей жизни терзали каждую ночь ее сны – для меня принимавшие объективный образ, как на пароходе. Так приходилось мне переживать одну ночь за другой те же страшные муки. Потому что теперь, когда я окончательно уверовал в действительность ясновидения и пришел раз и навсегда к убеждению, что в нашем теле лежит скрытая, как в гусенице, куколка, способная содержать в себе в свою очередь бабочку – прелестный древнегреческий символ души, – я уже не оставался, как бывало прежде, равнодушным к таким видениям во время их самого явления. Что-то такое разом развилось, выросло во мне, оторвавшись от своей ледяной куколки; и теперь ни единое бессознательное ощущение страдания в истощенном теле моей умирающей сестры, ни единый вопль или содрогание ужаса в беспокойных, полных душевной муки снах племянницы при воспоминании о совершенном над нею, невинным ребенком, преступлении, не проходило для меня даром, но каждое из них, напротив, пробуждало теперь ответный отголосок в моем обливающемся кровью сердце. Глубокий поток сочувственной любви и горя, залив это смертное сердце, вышел из берегов и громко клокотал теперь ответным эхом во впервые пробужденной во мне душе. А эта душа словно покидала меня, отделялась каждую ночь и странствовала независимо от своего тела… То были невыразимо ужасные денные и ночные терзания! О, как сожалел я тогда о своем безумном, слепом высокомерии! Как горько раскаивался, как страшно я был наказан за свой оскорбительный отзыв о ямабуси, за отказ подвергнуться предлагаемому им очищению. Воистину я стал подвла стен дайдж-дзину; и демон, как оказывалось, травил теперь свою жертву постоянно, направив на нее всех псов разверзнувшегося для нее ада.