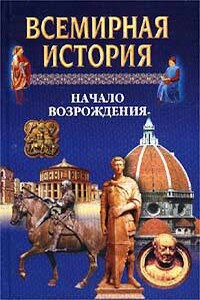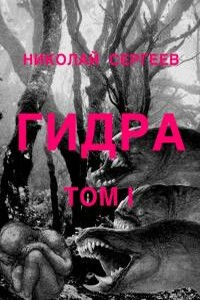Сталин против Лубянки. Кровавые ночи 1937 года | страница 41
Само поведение обеих групп на суде было столь же различно, как и их состав. Старики сидели совершенно разбитые, подавленные, отвечали приглушенным голосом, даже плакали. Зиновьев – худой, сгорбленный, седой, с провалившимися щеками. Мрачковский харкает кровью, теряет сознание, его выносят на руках. Все они выглядят затравленными и вконец измученными людьми. Молодые же проходимцы ведут себя бравурно-развязно, у них свежие, почти веселые лица, они чувствуют себя чуть ли не именинниками. С нескрываемым удовольствием рассказывают они о своих связях с Гестапо и всякие другие небылицы» [154] . Ягода любил доводить дело до конца. «За спиной подсудимых, в самом углу зала, виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой комнате, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик» [155] .
Утром 22 августа подсудимые подали на согласование Молчанову проект своего последнего слова. Бывший уголовник Молчанов всласть поиздевался над бывшими членами Политбюро. Из их покаянных речей были исключены все упоминания об их близости к Ленину и революционных заслугах. Каменеву Молчанов велел заявить, что он не заслуживает снисхождения как предатель, еврею Зиновьеву приказал публично назвать себя фашистом, что оба беспрекословно исполнили. К 23 августа они выучили свои роли и в этот день на глазах у сидевших в зале иностранных корреспондентов и переодетых сотрудников НКВД, изображавших публику в зале (среди них находился и Фельдбин-Орлов, описавший в своих мемуарах поведение подсудимых в последний день процесса) [156] , произнесли свое последнее слово. В ночь с 23 на 24 августа им всем огласили смертный приговор. На рассвете 25 августа их расстреляли в подвале клуба НКВД (ул. Дзержинского, д. 11) в присутствии Ягоды и Ежова. По Фельдбину-Орлову, на расстрел их вел начальник Оперода Паукер. Зиновьев хватал своих конвоиров за сапоги, плакал и умолял отложить казнь, Каменев пытался его утешить: «Перестаньте, Григорий, умрем достойно!» Ягода приказал переслать Ежову сплющенные пули, извлеченные из простреленных голов бывших членов Политбюро, чтобы тот получше помнил о возможностях НКВД.
Казнь этих людей, как ни удивительно, вызвала всеобщее облегчение. Одни (Ягода, Молчанов, Штейн и их подручные) ожидали себе наград за «раскрытие заговора». Другие надеялись, что репрессии если не ограничатся этим делом, то, по крайней мере, пойдут на убыль (среди них был, например, Бухарин, написавший 31 августа в частном письме Ворошилову известную фразу: «Циник-убийца Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая… Что расстреляли собак – страшно рад» [157] ). Но не случилось ни того, ни другого. И страшно радовался Бухарин преждевременно.